
Город Х (часть 4) |

«Город Х» ( роман) «Хрен редьки не слаще» (народное) Роман в самостоятельных историях «Город Хренск и село Редькино». Где главные герои одних историй «перетекают», становятся персонажами второго плана, участниками массовки или упоминаются в неких других сюжетах… и наоборот. ПЯТЬ ТРАГИКОМИЧЕСКО-РОМАНТИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ N. N. РОМА И ДИНА СЕЛЁДКА СЕРДЦА МОЕГО АЭ ДУРДОМ ПРОКОРМИТ N. N. 1 Накануне своего дня рождения Борис Абрамович Белокобыльский — мужчина средних лет с мешковатой фигурой — был взвинчен, потел, суетился по пустякам, пилил свою жену Ларису Моисеевну — тихую, вялую, невзрачную женщину. — Я же просил, Лара. Несколько раз говорил, что в ларьке водка дешевле, а ты взяла ее в «Маге», в супермаркете...— он шлепнул себя пухлой ладошкой по крепкой, лоснящейся лысине. Он всегда так делал, когда хотел подчеркнуть чью-то глупость. Другие крутят пальцем у виска, покачивают головой, он же отделывался шлепком. Ими же выплескивал эмоции на работе. Борис Абрамович был учителем географии в школе и когда какой-нибудь хронический троечник нес ахинею, он делал знакомый жест и нередко с иронией бросал: — Иди, третий, три... В русских сказках у царя, как правило, было три сына. Третий - двоечник. Белокобыльский, несмотря на свою внешнюю взрывчатость, грубоватость и практичность, был тайным мечтателем, романтиком. Он из года в год рассказывал сменяющимся ученикам одно и то же о разных странах и народах. За рубежом же сам не бывал, но благодаря книгам и фантазии учитель вместе с подопечными мысленно посетил все уголки мира. Порой мог и присочинить. В такие моменты он обычно начинал: - В некотором царстве, в некотором государстве... 2 Был вечер. Большая стрелка часов замерла на цифре шесть. С минуты на минуту должны ввалиться Мусорские и Очаговы. «На столе три бутылки водки. По бутылке на брата. Две бутылки сладкого вина - для дам. В резерве два пузыря «белой» и один «чернил», — подытоживал, потирая руки, Белокобыльский. Закуска, что стояла на столе, его мало интересовала. Привычка со студенческой поры — мог выпить стакан водки и занюхать заплесневевшей корочкой хлеба. Нагло, надрывно, режа слух, задребезжал дверной звонок, мужчина поспешно открыл дверь. На пороге с торжественными лицами переминались Мусорские. Ольга Мусорская — преподаватель музыкальной школы, коллега и лучшая подруга жены держала в руках букет чахлых, парниковых тюльпанов. От нее пахло весенней сыростью и приторными духами. Ее муж, Михайло, старший прапорщик полиции, хитро осклабившись, что-то прятал за спиной. — Держи, Борька! — гогоча, он чуть ли не кинул на грудь имениннику тощего огненного петуха. — Щас он спокойный. Я его хлебом, смоченным в вине, накормил, а так — хоть и из глухого села — боец. Генерал генералом. Наполеон! Вишь, хвоста нет? В битвах потерял. К теще сзади подскакивал и клевал ее в ж…. Сладу с ним не было. Она чуть заикой не стала, — Мусорский понял, что сказал что-то лишнее только после того, как его ущипнула жена. Кисло улыбнувшись, продолжил: — Холодец из него будет отменный… Очаговы задерживались. Когда Белокобыльские и Мусорские уселись за праздничный стол, зазвонил телефон. Борис разливал горячительные напитки, и поэтому к аппарату засеменила Лара. — Алё!. Как жаль. Ангина. Дочка или сынок? Бедный мальчик. Спасибо. Вам тоже от Бори привет. До свиданья. — Поправив очки, Лариса Моисеевна тихо сказала: — Очаговы не смогут прийти. Вася заболел. — Вот у нас с Ларой один Эдик и более не хотим... — бросил именинник. Помолчав, он добавил: — Дети — это рак мозгов. Поверьте мне как учителю с восемнадцатилетним стажем. — Где-то вы правы, Борис. Вот, наш пришел из армии — так я, наверное, с ведро валерьянки выпила. Поздно приходит домой. Часто не ночует. А то вползет пьяным с разбитым лицом. — Мало я его порол, подлеца, спиногрыза... — хмурясь, рыкнул Мусорский. — Сейчас мы у вас, а он, быть может, какую-нибудь шалаву привел и на супружеском ложе... — Миш! Что за слово «Шалава»? Где ты их только берешь? — Ладно, мать. Давайте-ка лучше выпьем за именинника. За тебя, Абрамыч. Мужчины выпили залпом, женщины мелкими глотками. Принялись закусывать - гремела посуда, позвякивали ножи и вилки, работали челюсти. Еще выпили. — Музыкального оформления не хватает, — заметил Мусорский, вытирая салфеткой толстые красные губы. Маленькие его глазки подернулись болотной мутью. — Оленька, я поставлю нашего любимца — Штрауса? — спросила Белокобыльская. Лицо ее, обычно имеющее цвет обезжиренного молока, порозовело от вина. — Да, Ларачка, да, милая. Включили магнитофон — полились вальсы. Опустели бутылки, ополовиненные блюда приобрели неряшливый вид. Дамы, перебивая друг друга, взахлеб щебетали. Белокобыльский побагровел, но держался молодцом. У Мусорского отвисла нижняя губа, начали слипаться глаза. Зевнув, он громко осведомил общество: — А я до сих пор люблю «Ласковый май». Мой спиногрыз, будучи школьником, принес кассету с ним, то есть с «Маем». Это любовь с первого взгляда. Нет, с первого звука. Белые розы, белые розы... — с хрипотцой зафальшивил старший прапорщик, — та-та-та, ля-ля-ля... — Миш, перестань! — умоляюще попросила его жена. — Что перестать? — Тебе медведь на ухо наступил. -У нас медведи не водятся. Заяц редкость. Поверьте мне, как охотнику. Ладно! — словно про себя что-то решив, сказал Михайло. — Борюня, пошли курнем. Давненько не травились. 3 — Абрамыч, угости сигаретой. Твои слаще. Лепота! — выдохнув клуб дыма, округлив глаза, воскликнул прапорщик. — Хошь, собственную загадку задам? — Задай. — Вино, сигарета. Что третье? — М-м-м? — именинеку тяжело думалось. — Жен-щи-на! — по слогам изрек Мусорский, подняв указательный палец в зеленке. — Женщина! Да! В молодости я был, как Каза... Каза... м-м-м? — Казанова! — поправил Белокабыльский. — Все-то ты, змей, знаешь, — Михайло погрозил зеленым пальцем. Неуверенно подошел к двери, прислушался. — А наши курицы все Страуса слушают. Го-го-го! Сколько у меня их было. — Мусорский, рассказывая о своих амурных похождениях, бурно жестикулировал, гримасничал, приседал, плевался, бил ногой об пол на манер кабеля, увидевшего сучку, причмокивал губами… Выкурил несколько сигарет, которые стрелял у Белокобыльского и которые у него постоянно тухли. На них ушло полкоробка спичек. «А я ему, этому дубу, завидую, — с горечью подумал Борис, в пол-уха слушая прапорщика. — А что у меня было, что было? Живу иллюзиями, мечтами, как шестнадцатилетняя девочка. Строю воздушные замки с принцами. Чем он лучше меня? Внешность на «3», ум на «3». Подпоручик Ржевский из анекдота. Да! Живу, жду, что вот-вот что-то случится, произойдет чудо и все изменится в корне. Знал только Лару. Она в постели, как, должно быть, надувная кукла. Водка — моя женщина! Где я был? Да нигде! Он же — и в Калининграде и на Камчатке. Контрасты! А-а-а!». — Ты знаешь, браток, — Мусорский обнял Белокобыльского за талию и, брызгая слюной, зашептал на ухо: — Я был близок с Героем Соцтруда. Да-да! Не веришь? С Мариваной Надоевой. Да-да! Как сейчас помню. Крым. Ялта. Бархатный сезон. Я молод, красив, высок. Только никому, т-с-с-с! — он прижал палец к слюнявым губам. «Красив? Высок? Метр с фуражкой и рылом не вышел», — Абрамович толком не знал, за что разозлился на Мусорского. — Почему палец в зеленке? — грубо оборвал он «Казанову». — А-а-а! Подарок клюнул, то есть петух. «Лучше бы он тебя – раненого в голову и задницу - в другой «палец» клюнул». Когда мужчины вернулись с перекура, на столе попыхивал электросамовар, рядом сладости и фрукты. — Сейчас, Борюсик, кофе будем пить, — ласково обронила Лара, заметив хмурость мужа. Он грузно плюхнулся в кресло. Магнитофон крутил Валерия Меладзе. «Последний романтик» пел о поздней любви, о золотистом локоне. Белокобыльский почувствовал нестерпимую душевную боль, его охватила, как он это называл, вселенская тоска. Из глаз потекли горячие слезы — большая для него редкость. Именинник опустил голову, чтоб никто не заметил его слабости. «Тебе за сорок, а ты, как юнец, страдающий от первой безответной любви. А, впрочем, ты, Боря, еще не безнадежен, раз можешь пустить сердечную слезу. Жив еще», — ему было одновременно и тоскливо и радостно, как при оргазме. «Новый год и день рождения — самые грустные праздники». На посошок мужчины выпили еще одну бутылку водки (резервную). Лариса после ухода гостей еще долго хлопотала на кухне — мыла посуду, прятала недоедки в холодильник. Борис разделся до трусов, не глядя на то, что в квартире было прохладно — топили плохо, а на улице март, и развалился на диване, разбросав руки и ноги в стороны. «Вино, сигарета... теперь третье...» — у него слипались глаза, но желанье брало свое. Он ждал Лару. «Почему у меня не было других женщин, кроме супружницы? Почему? Я, конечно, не роковой мужчина, но и не урод какой-нибудь. Лень? Да, пожалуй, лень. И еще страх перед неизбежными выяснениями отношений с другой. Душевный покой — как самоцель. Этот дуб Мусорский философонул, что постоянно любить одну и ту же женщину равносильно тому, что изо дня в день кормиться одной и той же похлебкой. Сам бы он до этого не додумался. Спопугайничал». 4 — Лаурочка, курочка моя, повернись ко мне передом, а к стене задом. Ну-у! — Борюсик, ты когда выпьешь, становишься циником. — Мне сегодня нельзя отказывать. — Мне нельзя. У меня начались раньше времени. Извини. Нельзя. Белокобыльский, шарахаясь в темноте, вспоминая черта, добрался до кухни. Включил свет. На столе — начатая бутылка вина — дамы не допили. Сделал несколько больших глотков из горлышка и поперхнулся — в спину словно вогнали шило. — Жар-птица чертова! — мужчина в сердцах пнул «подарок». Петух, видно, протрезвел и принялся за старые проказы. Смягчившись, Белокобыльский нежно сказал: — Извини, братишка, что о тебе забыл, не предложил, — смочив кусок хлеба вином, именинник покрошил его птице. Та стала жадно клевать, издавая гортанные звуки, такие непривычные для слуха горожанина в четвертом поколении. - Сирота, ты моя, сирота, — пытаясь погладить огненного, бормотал Борис — Тебе бы курочку. Нет, одной мало. Такому орлу дюжину надо. 5 Утром Белокобыльский, подремывая, долго отлеживался в постели — воскресенье. Лариса ушла на базар. Закрывая дверь, крикнула полусонному мужу, что вернется не ранее трех дня, так как собирается еще проведать родителей и забрать у них сына Эдика. Борис допил оставшееся вино, угостил петуха. Из пищи в рот ничего не лезло. Вышел покурить на лестничную площадку. Сверху доносилось побрякивание металла, ритмичное шарканье. Белокобыльский сделал несколько шагов и увидел на межэтажной площадке уборщицу. Она стояла к нему спиной, наклонившись. «Короткие, толстые волосатые ноги, вислый зад, отсутствие талии. Вымирающий вид, — изучая, думал он. — А впрочем, как спопугайничал прапор, некрасивых женщин нет — просто мало выпито вина. И вообще, что значит красивая или некрасивая. Дело вкуса. В уродстве тоже есть свой шарм. В уродстве — животное начало! В красоте? Что же в красоте? Красотой лучше любоваться». Женщина что-то сосредоточенно соскребала железным совком, не замечая Белокобыльского. Им овладело желание, кровь ударила в голову. Он мысленно начал ее раздевать, все более и более возбуждаясь. — Кхе-кхе-кхе! Она разогнулась, резко повернула голову — красное круглое лицо, над верхней губой еле заметные усики. — Кхе-кхе. Доброе утро. Здрасти. Такие женщины, как вы, вообще-то, созданы для любви, а не для работы. Кхе-кхе. У меня вчера был день рождения. Может, вы выпьете со мной стаканчик хорошего вина. Чтоб я был здоров. Кхе-кхе. — А как жена? — Ее нет! Она молча взяла ведро, савок и веник. — Я свое хозяйство занесу к тебе, а то еще упрут. — Да-да, заносите. Вот здесь поставьте. Возле обуви. Они выпили оставшуюся резервную бутылку водки. …Ее застиранная комбинация, позеленевший синяк на ляжке, рыхлый сморщенный живот. Чужое тело, которое пахло прокисшим молоком. Экстазные хрипы, отдаленно напоминающие хрюканье... «Пот и похоть. Случка свиней. В этом что-то есть, — пунктирно мелькали мысли у потеющего Белокобыльского. — Всё-ё-ё-ё-ё! Финита ля комедия». — Подари мне что-нибудь на память, — поспешно одевшись, попросила она. Плотоядно улыбнулась, показав отсутствие во рту нескольких зубов. — Я подарю тебе жар-птицу! Минуту спустя она покинула жилье Бориса Абрамовича, прихватив с собой петуха. — Я люблю холодец из петуха, — бросила женщина через порог. Бориса вырвало. Он толком не знал, от чего. Или от водки, или от этой женщины, а может, от того и другого. Чувство гадливости охватило все его существо. Он принял душ. «То же самое, наверно, испытывает пес, которого тычут мордой в дерьмо, им же самим наложенное в неположенном месте», — подумалось Белокобыльскому. 6 В понедельник Белокобыльский и Очагов встретились в учительской. — Я не знаю! Как ты мог? — возмущался, протирая очки платком, Эдуард Петрович Очагов — учитель математики, худой и сутулый, похожий на дятла мужчина. — Как ты мог? Я тебя не понимаю, Абрамович. Скажу, как другу. Вообще не люблю рассуждать на эти темы. Но когда постоянно любишь одну и ту же женщину, то знаешь все ее достоинства и недостатки. Я имею в виду тело. Каждый холмик, впадинка, родинка становятся родными. Недостатки становятся достоинствами. Твоя жена, желаешь ты того или нет, подспудно становится эталоном женщины для тебя. Это, конечно, субъективно, но... Я, например не могу представить себя с другой женщиной. Брезгую! Да, брезгую. У тебя, по всей видимости, начался период второго гнездования. — Какое еще второе гнездование? - Многие мужчины после сорока начинают искать другую женщину. Это природа. 7 — Итак, сегодня свободная тема, — обратился Борис Абрамович к девятиклассникам. — Это не урок литературы, но все же. Опишите в своем сочинении какую-нибудь страну. Словно вы там побывали. Ту, которая, быть может, будоражит ваше воображение, то есть страну ваших грез. Только покороче. Вечером дома, читая опусы своего класса, Белокобыльский не удивился. Мальчики, в основном, описывали США, Германию. Девочки — Францию, Италию. Никто не вспомнил о своей стране. У Наташи Никольской же — девочки, недавно пришедшей в класс (ее родители были беженцами откуда-то из Закавказья) вместо сочинения были рисунки экзотических животных. «Кого-то мне эти твари напоминают», — учитель долго всматривался в орангутанга, носорога, крокодила, попугая, кобру. — Лара, подойди, пожалуйста, сюда. — Что? — жена наклонилась над столом. — Что-то в этом есть. То есть я не то хотел сказать. Ну, не знаю. Она захихикала: — Все очень просто, Борюсик. Посмотри на этого дикобраза. Это же ты. Все, характерное для тебя, очень точно схвачено. Хи-хи-хи! — Да-да, — продолжил он. — Орангутанг похож на Долдонова, учителя физкультуры. Змея на директрису. А носорог... ха-ха-ха, а попугай... — Кто это рисовал? — поинтересовалась жена. — Наташа Никольская. — Талантливая девочка. Однозначно. «Она уже около трех месяцев в моем классе. А я толком не знаю, что она за человек. Миленькая, худенькая, большеглазая. Остальных сторонится, — размышлял Белокобыльский. — Другие кучкуются, любят стадность, а она сама по себе, как кошка. Я всегда побаивался такого типа девушек, женщин. Меня к ним тянуло, но я их боялся. Да, еще со школьной поры. Они, как правило, не злы, но равнодушны и холодны… Её рисунки, даже, в некотором смысле, добры». Через несколько дней Белокобыльский попросил Никольскую зайти после уроков в кабинет географии. — Наташа, у тебя нет страны грез? — Нет, Борис Абрамович. Везде люди одинаковы. Разве что одни живут более сытно, другие менее. — А при чем здесь звери? — Люди мне напоминают зверей, птиц, а города — каменные джунгли. — Я, значит, дикобраз? — Это мое любимое животное. — Спасибо. — Пожалуйста. Она была спокойна. Ясные, карие глаза смотрели на него, не моргая. «Она смотрит на меня, а сама не здесь. Где-то очень далеко, далеко». — Вы знаете, Наташа (он не заметил как перешел на «вы»), у позднего Тургенева есть стих в прозе. Когда-то я его знал наизусть. Начинается так: «Стройно и тихо проходишь ты по жизненному пути, без слез и без улыбки, едва оживленная равнодушным вниманием. Ты добра и умна. И все тебе чуждо — и никто тебе не нужен. Ты прекрасна». А-а-а... Запамятовал. Иди, Наташа. За «каменные джунгли» поставил тебе «отлично». Иди, дочка. До свидания. — До свидания. Жаль, что мы не ровесники, — сказала она, закрывая за собою дверь. Он никогда не курил в кабинете, а тут задымил. «Почему я всегда боялся женщин такого типа? Быть может, я бы не женился просто, чтоб жениться? Может, мне была нужна такая женщина, как Наташа, а не Лара с ее вечным сюсюканьем. Мне с ней, конечно, покойно, уютно, сытно, но нет радости жизни, полноты ее. Я мог бы стать дикобразом, а стал прирученным ежиком. А ведь мне светила аспирантура. Мог бы стать ученым. Трясина, болото. Ты всегда боялся жизни. Кисляк». Белокобыльский возвращался из школы. У дверей подъезда своего дома услышал гогот. Он из любопытства вернулся назад и заглянул в камеру мусоросборника. Там несколько женщин в синих линялых халатах сгребали и бросали лопатами мусор в урны. Заметив мужчину, они опять загоготали. Одна подмигнула ему и что-то шепнула седовласой пожилой соседке. — Какой царевич? Что за Жар-птица? Ты про хахаля слабоумной Олимпиады? — недоумевающе переспросила седая. Географа бросило в жар. — Борюсик, ты мне до сих пор так и не объяснил, куда делся петух? — поинтересовалась Лариса. — Куда делся, куда делся? Моль съела! — огрызнулся он. — Что с тобой? У тебя неприятности на работе? — Какая разница? Жена тихо заплакала. Ее тихие всхлипы напоминали мышиный писк. — Ну, прости, Лара. Прости. — Ты таким не был, Борюсик... 8 Учитель географии сидел в пропахшей прокисшим пивом и сигаретным дымом забегаловке. На столике перед ним стояла начатая бутылка водки и две пустые пивные кружки, пепельница, полная окурков. — Земеля, угости, остограммь, — к Борису Абрамовичу, прихрамывая, приблизился какой-то неряшливого вида мужичок с грязными всклокоченными волосами и воспаленными красными глазами. Борис налил ему водки в кружку. — Спасибо, земеля. Я майор. В Афганистане воевал. — Столица Афганистана? — Ой, земеля, не помню. — На, майор, сбегай. Еще возьми пива и водки, — Белокобыльский протянул мятые деньги. Они сидели до самого закрытия бара. «Афганец» пил и, скучая, слушал Абрамовича, который говорил, говорил, говорил. Из него лилась боль: — Живем с одной женщиной, изменяем с другой, а любим третью... У вдрызг пьяного мужчины текли слезы по лицу и падали в пивную кружку. 90-е годы – 2013г. адаптировано. РОМА И ДИНА 1 Весенняя ночь. Полная луна нахально заглядывала в комнату шестнадцатилетнего Ромы, лаская холодным голубоватым светом пол, стены, мебель…Паренёк вздрогнул и проснулся. Или ему привиделось, что он проснулся от ощущения присутствия кого-то в комнате? Он чуть приоткрыл глаза и с замирающим, от ранее неведомого страха, сердцем стал разглядывать свою комнату. Он боялся пошевелить даже пальцем ноги. Он робел обнаружить своё присутствие перед Некто. Белую тюлевую штору словно колыхнуло сильным сквозняком и от неё отделилась, как разглядел Рома Холодов, хрупкая и стройная девичья фигурка в прозрачном и лёгком, цвета лунного света, одеянии. - Не бойся, милый мой, - тихо сказала она и виновато улыбнулась, - Я пришла на тебя посмотреть… - она приблизилась к Роме, нежно с радостью коснулась рукой его лба, волос. Паренёк одеревенел. Он видел только глубокие печальные глаза, чувствовал лёд её руки, прохладное дыхание. Ещё мгновение и его сердечко выскочит или разорвётся. - Не бойся, милый мой, - ласково продолжала она, - Только молчи… - К-к-кто ты? – напрягшись всем своим существом, выдохнул он из себя. Незнакомка растаяла в воздухе. Он закрыл глаза, сжал их веками до боли, до появления в них белых светящихся кружков. Несколько мгновений спустя широко их открыл. Никого. Только зыбкий лунный свет. 2 Рома на следующий день не находил себе места. Он не мог себе объяснить случившееся ночью. Если это сон, то почему тогда он явственно чувствовал тяжесть руки ночной гостьи, её лёгкое и влажное дыхание, слышал такой чарующий и, в тоже время, леденящий кровь голос? Значит, не сон. Если не сон, то куда она исчезла, стоило ему задать вопрос, перебить её? Что всё это значит? Ни заболел ли? Днём парень нагрубил матери – мягкой и малословной женщине. Потом извинялся и, чуть было, ни рассказал ей о ночном свидании с незнакомкой. - Я, сынок, по молодости как-то обидела свою тётю, сестру мамы. Её уже давно нет. А я до сих пор всё не могу простить себе грубость по отношению к ней. Она, должно быть, в тот, загробный мир ушла с обидой на меня. Вспоминаю и мучаюсь. Да, мучаюсь, Рома… - говорила мать сыну – Не обижай зря людей… Скоро родительский день. Поедешь со мной на кладбище? - Поеду, мама. 3 Новое кладбище находилось за городом, рядом с селом Редькино. Добираться до него Холодовым пришлось в переполненном автобусе. В салоне пахло цветами, потом и раскалённым железом. На улице теплынь. Отцветала вишня, роняя на земь лепестковый снег. Мать и сын расположились на маленькой и низенькой, с облупившейся краской, лавочке, что была вкопана напротив могил бабушки и дедушки. На живых и мёртвых бросал редкую тень куст сирени, который вот-вот должен был начать цвести. Женщина вытащила из пакета яйца-крашенки, хлеб, нарезанную ломтиками колбасу, сладости и воду. Они помянули близких. У Холодовой увлажнились глаза. В сердце парня тоже заглянула сосуще-сладкая тоска. - Сынок, на-ко возьми конфет с печеньем и подай вон той женщине в синей кофте. Пусть наших помянет. Рома взял пакетик и, огибая памятники, побрёл к сутулой седой женщине. Она стояла возле сравнительно новой, хорошо ухоженной могилы. Когда парень взглянул на изображение, что было выбито на плите чёрного мрамора, то ему отказали ноги. Он, к счастью, успел цепко схватиться побелевшими пальцами за металлическую ограду, что и спасло его от падения. - Что с тобой, мальчик? – сочувственно спросила женщина в синей кофте, - Тебе плохо? - Нет-нет! Ничего! – чтобы как-то отвлечь женщину от своего состояния, он из себя с трудом, словно из засохшего тюбика крем, выдавил несколько слов: - Будьте добры, помяните Александра и Марию, - передал пакетик. - Царствие небесное Александру и Марии. « Это ОНА! Да-да! Та девушка, что приходила ко мне ночью…» У Ромы невыносимо заныло в висках, словно голову, желая расколоть, как орех, кто-то неведомый стиснул огромными щипцами. « Только улыбка не виноватая, а задорная. В глазах чёртики. Боже, какая красивая! Сколько в ней жизни!..» - Мальчик, что с тобой? Мальчик! - Что? – Рому словно больно толкнули и он проснулся. - Ты такой бледный! Тебе плохо? - Нет-нет! Нормально. - На. Возьми конфеты. Моя внучка Дина любила сладости. Помяни её. У меня, мальчик, сердце от боли обуглилось, душа почернела… Внученька моя, Диночка! Чистая моя!.. – у женщины в покрасневших глазах появились слёзы. Она, и так сутулая, ещё больше сгорбилась, - Надругались над ней бездушные, а потом убили… Диночка!.. 4 Минула неделя после родительского дня. Рома с большим букетом алых тюльпанов шёл к автобусной остановке. - Ромашка, ты, случайно, не мне купил цветы? – окликнула парня не по возрасту пышнотелая девица из параллельного класса, смакуя жвачку и пуская большие розовые пузыри. - Жаннет, только без обиды, хорошо? - Ну-у-и-и? - Тебе бы я пучок сена купил бы. - Глу-упы-ый ду-ура-ак! – кокетливо и протяжно бросила она ему и сплюнула. Холодов ехал на Новое кладбище. Всю прошедшую неделю перед его взором неотступно было лицо Дины. Когда же он закрывал глаза, оно становилось отчётливее, явственнее. От этого, ложась спать, он долго не мог заснуть – ворочался, менял позы до изнеможения. Полностью обессилев телесно и душевно, забывался в тревожном, поверхностном сне. «… Я знаю эту лесополосу, Дина. Ты хотела сократить путь домой. Хоть был и день, несколько похотливых и трусливых выродков изнасиловали тебя. Эти шакалы испугались за свои блохастые шкуры и убили тебя. Убили, чтоб молчала. Убивать и насиловать им не страшно…» Тюльпаны, поставленные Ромой в надгробную вазу, поникли, их лепестки съёжились от зноя, разлитого в воздухе. «… Ты, Дина, была старше меня на двадцать семь дней. Теперь я старше тебя почти на два года… Докурю и пойду…» - Рома подряд выкурил несколько сигарет и теперь у него во рту горчило. - Братэлло, угости сигаретой, - услышал Холодов за спиной неприятный с наглецой голосок. Их было четверо. Бритоголовые, слегка неряшливые, в драной и линялой по моде голубой джинсе. Рома протянул пачку. - Нас четверо. Возьмём по две на рыло, - продолжал низкорослый и коренастый, похожий на бычка, парень с массивной печаткой в виде черепа на короткопалой волосатой пятерне, - Только не спорь, братэлло, а то заберём все… Ты здесь бронзы не видел? - Нет! - Видимо невнимательный… Кто эта тёлка? Твоя сестрёнка? – выпустив клуб дыма в Ромино лицо, спросил с печаткой, - Вы с ней чем-то похожи… Интересно, у неё ножки были так же хороши, как и мордашка? Все заржали. Один из них, самый высокий и тощий, тонко и гадко захихикал. Рома крепился, но именно это хихиканье было последней каплей. - Не скули, шакал, - тихо, сдерживая злость, сказал он верзиле. У Ромы потемнело в глазах, лицо лизнула густая зелень травы. Сумерки только-только начали надвигаться. Парень лежал на тёплой, нагретой за день, земле. На ещё светлом небе уже появилась одинокая звезда. 5 Рома с трудом приподнял отяжелевшие веки, в глаза до боли ударил яркий солнечный свет. Рядом, возле его кровати, сидела на стуле поникшая, резко состарившаяся мама. - Как ты, сынок? - Что произошло, мама? - Тебя на кладбище нашёл пастух. Он недалеко пас стадо. Ты всю ночь пролежал там. Что я за эту ночь только не передумала, - у женщины по щекам потекли слёзы, - Места себе не находила. Вчера днём тебя привезли. Сутки спал. Как ты? - Ничего. Только, вот, во рту привкус крови и тяжело говорить. - Тебя сильно избили. В зеркало тебе лучше пока не смотреть. Всю ночь бредил. Какую-то Дину вспоминал. Кто это? - Мне тяжело, мама, говорить, - тихо сказал он и устало закрыл глаза. 6 Синяки у Холодова шли на убыль, но всё равно врач посоветовал ему находиться в постели, так как у парня было сломано два ребра. Рома за время болезни до мельчайших деталей изучил географию потолка. Каждая впадинка, бугорок были ему знакомы. В неровностях побелки он различал разнообразнейших зверюшек, страшные и смешные рожицы. Но особенно ему был дорог один небольшой, с ладошку кусочек потолка – парень на нём разглядел глаза и улыбку Дины. « Ты ненормальный, малый, - думал он о себе, - полюбил мёртвую. Ёе почти два года уже нет. Что, мало хорошеньких девчонок, что рядом с тобой, здесь? Эта коровушка Жанка права. Ты, Ромашка, глупый дурак». Парень почти каждый раз себя убеждал в том, что это ненормально, неестественно любить того, кого давно уже нет. Но стоило дунуть ветерку чувств и карточный домик рассудка, такой устойчивый на вид, разрушался. « Дина, приди. Я хочу, хотя бы ещё раз, тебя увидеть. Пожайлуста, приди» - нашёптывал он свою просьбу, словно молитву, перед сном. 7 Когда увалень сон начал наваливаться всей своей мягкой и вязкой громадой на Рому, он услышал лёгкий скрип рядом стоящего стула. Чуть приоткрыв глаза, он увидел Дину. - Прости, милый, что беспокою твой сон. Я пришла к тебе в последний раз, - она виновато улыбнулась, - Я была предназначена тебе в невесты небом, но нечистому и дурным людям была угодна моя смерть. Ты проживёшь долгую жизнь, но не узнаешь настоящей любви. Да, не узнаешь. Не мучайся от этого. Живи спокойно. Я буду ждать тебя, только не торопись ко мне, милый, - она встала со стула и, с нежностью любящей женщины-девушки, провела по Роминым волосам рукой. - Не уходи, Дина! Я люблю тебя!.. Она стала таять в воздухе. Последнее, что он услышал, было: - До встречи, милый… 90-годы –2013г. адаптировано. СЕЛЁДКА СЕРДЦА МОЕГО Станислав Романович Брекетов — шеф-повар известного хренского ресторана «Голливуд» — прогуливался по зимнему парку. «…Снег похрустывает, словно свежая капуста иль огурец…» — бессуетно размышлял крупный, с пузцом сорокалетний мужчина. Увидав на фасаде старинного здания табличку «Улица А. П. Чехова», он вспомнил, что в юности очень любил короткие рассказы молодого Антоши Чехонте. Перечитывал их, от души смеялся. «…Как же ее звали? Вика или Ника? Фамилия вроде Мизинова. Она нравилась Чехову. Он, кажется, в письме с легкой и доброй улыбкой обращался к девушке: «Кукуруза души моей!..». Потом Вика или Ника уехала с писателем Потапенко куда-то за границу. Забеременела от него… Любил ли Мизинову Чехов или посмеивался над ней? Вообще любил ли он — умный и ироничный — кого-нибудь за свои сорок четыре года жизни?.. Уже никто и никогда не узнает… А я любил или нет? Татьяна? Сыграли свадьбу, когда мне стукнуло двадцать семь. Женился потому, что все друзья уже переженились. Некоторые — по два раза. Прожили несколько лет. Детей бог не дал. У нее, как мне кажется, стал портиться характер. Я с годами начал матереть, а она — стервенеть. Подал документы на развод… Ольга? Хотел собственных детей. Особенно сына. Она родила мне Андрея. Стал хорошо зарабатывать. Она сидела дома. Несвежие, мятые халаты; бигуди в волосах; ногти с облупившимся ярко-красным лаком; вечно заспанный вид… Ее интересовали лишь глупые женские романы и бесконечные сериалы. Я потерял к Ольге всякий интерес. Расстались… Юля-Юлечка-Юла! На шестнадцать лет моложе меня. В маленькой, пустой головке только шмотки и секс — похотливая барахольщица. Мадам Грицацуева. Говорят, первая жена от бога, вторая — от людей, а третья — от черта. Согласен с народной мудростью. Бес меня попутал с Юлькой связаться. Несколько лет, как на вулкане. Собрал ее барахло в два десятка объемных картонных коробок и отправил девицу к родителям на переделку, на доработку… Уже полтора года один. Случился один недолгий и несерьезный роман. Он не в счет. Завтра день Святого Валентина… — Станислав Романович увидел рыжую толстуху в спортивном комбинезоне. Она кокетливо вышагивала с бультерьером — Ха! Дама с собачкой? У НЕЕ тоже бультерьер. Агрессивная порода. Эти собаки похожи на огромных злобных крыс… Завтра день влюбленных. Может, набраться смелости и позвонить ЕЙ?..». Брекетов весь вечер составлял поздравительно-объяснительный текст для НЕЕ. Сначала он пытался написать стих, но не рифмовалось, шло наперекосяк, и он написал в прозе… — …Вы селедка сердца моего! — голос Станислава Романовича вибрировал от волнения , — Повидло души моей! Уксус мыслей! Горчица грусти! Пельмень печали! Тефтеля тоски! Редиска радости! Спагетти страсти! Кулебяка любви! Глазунья глаз моих!.. — выдохнул из себя последние слова пунцовый и потный шеф-повар. Хорошо, что ОНА его не видела. Он всю эту абракадабру сказал ей по сотовому телефону. Ночью Брекетов не спал. «…На пятом десятке лет первый раз в жизни объяснился в любви. Она, затаив дыхание, слушала, а потом сказала: «Когда мы были молодыми, мы чушь прекрасную несли… Что за глупости, Станислав Романович?». Я стал, сбиваясь, оправдываться. Пытался рассказать про Антона Павловича Чехова и Нику или Вику Мизинову. Потом вконец запутался и, не сказав «До свидания», отключил телефон…». Станислав Романович открыл бутылку коньяка и, потягивая его из горлышка, взял в руку пульт телевизора. С возгласом: «Вина и музыки!» стал искать канал с песенным шоу. Но «Культура» транслировала скучный, давящий на психику классический концерт. По другим каналам было все что угодно, только не легкая музыка. — …Не приучили тебя, Стасик-колбасик, к Чайковскому иль Баху… Но зато ты и попсу не слушаешь. Понимаешь, чувствуешь, что это полная фигня, — сам с собою разговаривал Брекетов, наполовину опустошив бутылку. — Попса? А что? Можно и типа попсы послушать, — мужчина достал с полки, покрывшейся пылью, приемник и нашел подходящую волну. Слушая нагоняющий тоску и уныние шансон, Станислав Романович и нервно, болезненно смеялся и плакал, вытирая лицо одеялом. «…С вами нельзя ни о чем серьезно поговорить. Вы все переводите в шутку…» — сказала ОНА мне шесть дней назад. Приблизительно это же говорили и три прежние жены. Друг Артем как-то заметил: «Неясно, Стас, когда ты прикалываешься, а когда серьезен…». Я клоун! Клоун влюбился! Ха-ха-ха!..». Зимнее солнце, заглянувшее утром в спальню Брекетова, увидело следующую картину: на широкой кровати спал в одежде большой мужчина. На его лице играла улыбка, какие бывают у маленьких детей или взрослых, что не совсем в себе… Сентябрь, 2010г. АЭ 1 — Родители не ошиблись, назвав тебя Аэлитой. Ты явно с Луны свалилась… — Не с Луны, а с Марса. — Какая разница? Ты живешь не по людским законам, принципам, Аэ. Обычно замужем за старым и богатым, а в любовники берут себе молодого и красивого. Так поступает большинство женщин нашего круга. Так делаю я. А у тебя, подруга, все, как не у людей. — Разве, Ирэн, большинство людей — люди?.. Две яркие, ухоженные женщины коротали вечер в дорогом хренском ресторане «Голливуд»: пили горячий шоколад, курили кальян и говорили о личном. Через некоторое время они вышли на улицу мегаполиса. Огненноволосая Аэлита оседлала навороченный спортивный мотоцикл, а блондинка Ирэн села в черный джип размером с танк, движением глаз дала знать водителю-телохранителю: «Заводи мотор. Поехали!». Подруги разъехались в разные стороны. 2 Прошло около месяца. Подруги сидели в «Голливуде» — Что ты, Аэ, в нем нашла? Старый, худой, сутулый… Эти сосульки грязных слипшихся волос. Одет чуть лучше бомжа… — Он похож на Гоголя! — Ха-а! Гоголь к концу жизни чокнулся, умер в нищете. Он тебе же, Аэ, в отцы годится. — Да. — Что «да»? — Годится. Ему за пятьдесят… Ирэн долго молча глядела на Аэлиту, как, должно быть, смотрит психотерапевт на впервые прибывшего в желтый дом душевнобольного, желая поставить диагноз. Хозяйка танкоподобного джипа нервно закурила сигарету и поинтересовалась: — Он, Аэ, хоть любовник-то хороший? — Средний. У меня были лучше. — Ничего не понимаю. Твой муж Эдик богат. Чуть старше тебя. Похож на Гошу Куценко… Многое тебе прощает… — Он сухарь и зануда, Ирэн. — Тьфу-у! Я сегодня, Аэ, напьюсь, слушая твои бредни, — блонда Ирэн щелкнула пальцами, подозвав официанта — благородной сдержанностью и осанкой похожего на английского лорда. — Шура, принеси-ка нам пузырь вискаря! Женщины выпили бутылку. Заказали вторую. — Что ты, Аэ, тогда нашла в этом юродивом? — Он шаман! — Чо-о? — Он, когда читает стихи, похож на шамана. — Тьфу-у, Аэ, на тебя и на него! — Он, если точнее, настоящий… — Говори-говори, подруга. Продолжай. Мне интересно слушать ту чушь, тот бред, что ты несешь. Забавно, однако. — Сергей — умный и ироничный. Нет, он саркастичный. Он кладет на материальную сторону жизни. С ним я могу пить дрянную водку под кабачковую икру иль кильку в томате, курить вонючие сигареты без фильтра, сплевывая табак и стряхивая пепел на давно немытый пол, и при этом испытывать стопроцентный кайф от жизни… — Да-а у-уж, Аэ. Ты извращенка? — Если бы Сергей жил в Древней Греции, то его домом была бы бочка. Она стояла бы рядом с бочкой Диогена… -Эффектная, породистая! Рядом занюханный мужичок. Ничего не понимаю. Вас с поэтом обоих надо лечить… Обоих в дурдом… 3 Прошло два месяца с небольшим. В три часа ночи на тумбочке возле кровати Ирэн тихо замурлыкал сотовый телефон. — Да-а! Это ты, Аэ? Поздно же. Я спала… — Ты знаешь, Ирэн, я с планеты, где лазоревые леса и каракотовые горы… — Я знаю, Аэ. — Так вот. Здесь, на Голубой планете я временно. — Все мы временно — Не перебивай, Ирэн. Я здесь на каникулах. — Аэ, ты пьяна? — Не перебивай. Мир во мне, в моем сердце красивее, гармоничнее и светлее внешнего мира — мира людей — мира темного, горбатого, фальшивого… Поэт как-то сказал, что у большинства людей в головах тараканы и только у избранных — бабочки. У меня бабочки… — Я вижу, тебе, Аэ, плохо. — Да, Ирэн. — Давай встретимся. - Давай… 4 — Многих женщин нашего круга, — говорила бледная Ирэн заплаканной Аэлите, — праздная скука бросает в крайности. Многие из нас бесятся от жира. Может, твой поэт был для тебя капризом, шалостью очень обеспеченной женщины? Бедный, но талантливый поэт, пожалуй, интереснее и экзотичнее мускулистого стриптизера. — Нет, Ирэн. Это было очень серьезно. Серьезнее не бывает. — Постарайся успокоиться и ещё раз всё по порядку расскажи, — блондинка щелкнула пальцами. — Шура, пузырь вискаря нам! Женщины выпили. — Приблизительно месяц назад мой муж Эдик узнал о поэте Сергее. Он не стал устраивать скандал, а спокойно, словно речь шла о блюдах в ресторане, спросил: «Я или он?». «Он», — ответила я. Мне это, Ирэн, далось очень тяжело. Эдик промолчал. Лишь брезгливо сморщился… Восемь дней назад Сергей исчез. Телефон его молчит… В дверях квартиры стоят новые замки... Я звонила, била ногами в дверь — тишина! — Ты, Аэ, не думай сразу о плохом. — Я стараюсь не думать. У Сергея одним из любимых стихотворений был стих Есенина. В нем такие строки: «…Не ругайтесь. Такое дело… Та-та-та… Брошу все. Отпущу себе бороду. И бродягой пойду по Руси… Та-та-та… Позабуду поэмы и книги, перекину за плечи суму… Та-та-та… Провоняю я редькой и луком… Та-та-та… Буду громко сморкаться в руку и во всем дурака валять… Та-та-та…» — Да-а у-уж, Аэ. Редькой и луком? Тяжёлый случай… — Может, Ирэн, поэт отправился пешком в Магадан? Он говорил о Магадане не раз. - Я б, подруга, не удивилась. На него и на тебя это похоже… 5 Через несколько дней в обеденное время замурлыкал сотовый Ирэн. — Я слушаю тебя, Аэ. — Ирэн, его убили! Уби-ли! — слышались истеричные крики из телефонной трубки. — Успокойся! Кого убили? — Сергея! Поэта! — Успокойся, моя хорошая. Найдешь себе другого поэта. Их в Хренске много, как не вешаных собак. На любой вкус и цвет… — Дура ты, Ирэн! — Спасибо за «дуру». — Я только с ним. Только с Сергеем испытывала душевный оргазм… — Что ты испытывала?.. Пошли короткие гудки. Аэлита отключила телефон. 6 Через несколько дней огненноволосая Аэлита насмерть разбилась на мотоцикле. Это случилось ночью на пустынной улице. Алкоголя и наркотиков в крови погибшей обнаружено не было. Следствие выдвинуло две версии: самоубийство или неисправность транспортного средства… Январь, 2011г ДУРДОМ ПРОКОРМИТ Поздним летним вечером на лавочке, возле вытянутого одноэтажного дома на две квартиры сидели три женщины: мать, дочь и внучка Хряковы. Матери под восемьдесят лет, дочери - под шестьдесят, внучке – под сорок. Даже в сгущающихся сумерках можно было догадаться, что все они кровные родственники. Все трое – толстокрасномордые с маленькими белесомутными глазками, рыжеватыми паклями волос и с фигурами старых мясников иль шеф-поваров мужчин: широкие мощные плечи, узкие бёдра и пузыри огромных вислых животов… - Кажется, Валька Безхренова промелькнула. - Да. Что-то несла. Узлы какие-то, - поддакнула Хряковой второй третья. - Дурдом прокормит, - сделала вывод старуха Хрякова первая, - Дурдом всё Редькино прокормит, ё… твою мать! Хрякова первая всю жизнь вкалывала в колхозе «Красное вымя» дояркой и скотницей. Её дочь – Хрякова вторая долгое время работала в овощеводческом совхозе «Красный хрен». Сейчас дочь на пенсии, но денег не хватает и она подрабатывает уборщицей в хренской школе полиции. Убирает и моет общественные туалеты. Хрякова третья – дочь Хряковой второй и внучка Хряковой первой – в своё время закончила хренский пищевой техникум и в данное время трудится мастером в одном из частных колбасных цехов мегаполиса. Тёплыми вечерами три женщины любят посидеть на лавочке, подышать свежим воздухом, посплетничать, полузгать семечки, выпить пива иль самопляса, сыграть партеечку – другую в карточного «Дурака» иль «Козла»… да мало ли ещё что. А, да, Хряковы большие любительницы поматерить, а то и побить кого-нибудь из соседей. У них друзей нет. Вот так и живёт-поживает «Свиноферма». Так трёх женщин называют местные алкаши, соседи, недоброжелатели. Мужей у них нет. У Хряковой первой муж сгинул лет сорок назад от водки, активной половой жизни и дурного характера… Про мужа Хряковой второй говорят, что он умер не своею смертью. Что, мол, мужа-алкаша Хрякова вторая удавила подушкой, когда тот пришёл после выдачи зарплаты в стельку пьяным и с вывернутыми, пустыми карманами… Хрякова третья в шестнадцать лет выскочила замуж и несколько месяцев спустя развелась. Про неё редькинцы судачат, что, мол, слабая на передок, что, якобы, подобна мартовской кошке… * * * * * А, впрочем, речь пойдёт не о «Свиноферме», а об их соседке по дому – Вальке Безхреновой – маленькой, худенькой, остроносой горбунье лет пятидесяти. «Безхренова» - это не фамилия нянечки из редькинского интерната для душевнобольных (в народе – «дурдома»), это, как говорят бывалые, синие от зоновских татуировок мужики, погоняло. Почему такое погоняло? Потому, что у неё – у Валентины никогда не водились мужчины. Одноразовые – да. Редко-редко и то по пьянке. Валя, увы, никогда не была замужем, что ей не помешало родить двух сыновей и дочь. Женщина была не желанным ребёнком в своей семье. Её не хотели ни отец и ни мать. Они, особенно мать, пытались избавиться от плода всеми мыслимыми и немыслимыми народными средствами. Но девочка, хоть и семимесячная, родилась и выжила. Валечка была слаба умом и телом. Она закончила несколько классов в школе. Кое-как выучилась читать и считать, а далее её родители заставили сидеть дома, помогать по хозяйству. Она с малых лет кормила и поила птицу и скот, убирала за ними; доила корову; стирала бельё и мыла полы; готовила нехитрые блюда… Когда Вале исполнилось восемнадцать лет, отец, хорошо умаслив главврача интерната для душевнобольных, устроил дочь в спецучреждение нянечкой. Валя успела несколько лет проработать в интернате, когда в заведении по графику устроили очередной банный день. Девушка помогала мыться пожизненно находящимся в лечебнице больным мужчинам. Она выдавала им куски хозяйственного мыла, мочалки, полотенца, комплекты свежего белья, принимала грязное. Время от времени делала уборку в душевой. Валя мыла безусых прыщавых мальчиков, молодых мужчин, матёрых мужиков и трясущихся, немощных стариков… Принял душ последний больной и девушка стала делать уборку. Когда она нагнулась к ведру с водой, чтоб сполоснуть половую тряпку, кто-то сзади грубо и властно задрал её халат, стянул рейтузы и причинил боль… Находясь в шоковом состоянии, нянечка не успела разглядеть насильника. Так Валечка потеряла невинность. Через несколько месяцев у горбуньи стал обозначаться живот. Валин отец – сельский тракторист – не успел узнать о беременности дочери, узнать о своём приближающемся дедовстве. Он, после очередной халтуры, хорошо поддал и свалился вместе с трактором с шаткого, узкого моста в речку Вонючку. Погиб. Мать же к рождению внука отнеслась равнодушно. Словно не дочь родила, а кошка Мурка окотилась. Валя назвала сына Иваном. Ей шёл двадцать шестой год. * * * * * Пройдёт ещё несколько лет. Валино суточное дежурство выпадет с 31 декабря на 1 января. Весь медперсонал, включая дежурного врача, будет пить до поросячьего визга, обжорничать до икоты и отрыжки, свистоплясничать с доморощенным стриптизом, мелкими ссорами и беспорядочным блудом… Валя 1 января проснётся в своей подсобке полностью голой. Как ей потом расскажут, она, под бой курантов, выпила гранчак самопляса. Точнее, не совсем так. Женщина попросила Потапа – жирного, рыжего санитара, чтоб он ей налил в стакан газ-воды «Буратино». Потап же наполнил стакан огненной водой и влил её в агонизирующее нянечкино горло. Говорили, что Безхренова стала озорничать. Мол, разделась и танцевала на столе, а потом пыталась залезть на высокую новогоднюю ёлку, что растёт на улице. Хотела добыть звезду с верхушки дерева. В конце сентября горбунья родила рыженькую, пухленькую девочку. Мать Вали к появлению внучки отнеслась спокойно, флегматично, словно не дочь родила, а курица снесла яйцо. Матери было не до дочери и внуков, она пила. Пила уже давно, после гибели мужа-отца Валентины. Молодой женщине шёл тридцатый год, когда её дочка Оля сказала: «Ма-а-а!» * * * * * Сына Ивана провожали в армию. Он сильно напился, буянил, подрался с соседом. Всю ночь напролёт шарахался по квартире, переворачивая мебель. Валя под блеклое, туманное весеннее утро забылась сном. Ей привиделось, что на неё бросили мешок с картошкой. Женщине стало не хватать воздуха и она, вся мокрая от пота, вскрикнула и проснулась… Сын Иван был на матери. Сопел, кряхтел… в конце – застонал. Валя закрыла глаза и до хруста сжала зубы. В сорок пять лет, когда сын Иван уже более полугода служил в армии, Валентина родила семимесячного больного мальчика. * * * * * Недавно Вале пошёл шестой десяток. Сын Иван пьёт и гуляет, нигде не работает. Бывает, подхалтуривает: забивает за мясо и выпивку скот; рыбачит на речке-вонючке; приворовывает в дачном посёлке, что в пяти километрах от Редькино… Когда сын выпивает, с ним часто случаются пьяные истерики, затмения рассудка. В эти моменты он убивает своих и соседских кошек и собак, дерётся с собутыльниками, бьёт в доме посуду, рубит топором мебель… Дочь Ольга к двадцати годам нагуляла четырёх детей. Она тоже, как и старший брат, нигде не работает. Пьёт, курит, часто уезжает в соседнее село Лопуховку, где пропадает по несколько дней – потаскушничает. Ольга своих четырёх малых детишек, карнаваля, бросает на мать. За это соседи её зовут «Кукушкой». Как-то раз Валентина оступилась и сломала ногу. В это время за Ольгиными детьми никто толком не приглядывал. И их – грязных, голодных и вшивых – забрали в детдом. Недавно Ольга заболела чахоткой, но не лечится, а продолжает вести разгульную жизнь. Третьему ребёнку Валентины идёт седьмой год. Мальчик страдает врождённым слабоумием – подобен комнатному растению. Он совершенно не приспособлен к реалиям жизни. Многие люди, когда им плохо, невыносимо тяжело, опускают руки, падают духом. У Валентины, к счастью, всё наоборот. Она может ночью копать огород; в дождь сажать, допустим, огурцы или помидоры; таскать брёвна иль мешки с картошкой; рубить дрова… Она, хоть и маленькая, и худенькая, но в тяжёлые жизненные моменты у неё берутся откуда-то дополнительные силы. Может эти силы от необычного сна, что видится женщине раз в год перед Рождеством? * * * * * Иван отмечал своё двадцатипятилетие. Он выставил своим дружкам-собутыльникам шашлык и двадцатьпять пол-литровых бутылок максимки, что заранее купил у цыгана Будулая. Компания жарила возле бани мясо, пила, как воду, разведённый спирт, изощрённо материлась и рассказывала скабрёзные анекдоты. Недалеко от пирующих сидели на лавочке соседки Хряковы. - Маленькая, щупленькая, горбатенькая… Одним словом – убогая, а везде успевает, - сплюнув семечковую шелуху, заметила Хрякова вторая. - Да, и корова у неё, и большой огород, и дети непутёвые, больные, и работа в дурдоме… а, кругом успевает, всех кормит и одевает, - поддержала свою мать Хрякова третья. - Это ещё что, – подперев бока руками, важно изрекла Хрякова вторая, - Иван-дурак на днях в дом привёл какую-то пьянчужку и потаскушку. Сказал матери – Вальке Безхреновой: « Это, мать, моя жена! Она будет жить у нас!» Получается, ещё один рот, ещё одна бездельница в доме… - Фигня! – подала голос Хрякова первая, - Безхренова из дурдома тащит всё, что можно утащить. Тут и еда. Точнее объедки. То, что дураки не доели. Одежда, постельное бельё, стиральные порошки и мыло… Да, мало ли ещё что. А, да, Валька в дурдоме молоко продаёт. В Хренск не возит, в отличие от большинства наших … Фигня! Дурдом прокормит! - Дурдом всё Редькино прокормит! - Нет! Всё село, весь колхоз не прокормит, а половину – да! Точно прокормит и оденет… * * * * * В ночь перед Рождеством Валентине снилось, будто на горбике расползалась кожа – во сне женщине было не больно, а щёкотно – и показывались два белых крыла. Она их, подобные лебединым, расправляла и в одной белой, чистой сорочке всю зимнюю морозную ночь летала над селом Редькино и его окрестностями. Под хмурое утро прилетела домой радостная и сильная. Крылья сами складывались и зарастали, зарубцевались кожей до следующего полёта. Да, так, что и следов не было видно… * * * * * Вот такой волшебный сон, снящийся один раз в год, возможно и даёт силы Валентине выстоять и не сломаться от всего того уродства и кошмара, что её постоянно окружает, окружает изо дня в день, из года в год… всю жизнь. Ноябрь, 2012г. 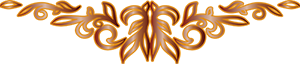 |
|
Категория: Проза › МВ | Просмотров: 989 | Дата: 19.02.2017 | |
| Всего комментариев: 0 | |

