
Зеленый конь на белом снегу. Часть-2 |

Четверг (16) Зима стояла на удивление теплая, безветренная, скупая на снег. Шел на убыль февраль и тут ударили морозы под сорок градусов. Завьюжило. Неделю валил снег. Валил и днем и ночью – белое марево. Любовь Ивановна варила щи в большой, ведерной кастрюле и ждала своих сыновей из школы. Из ровного, умиротворенного состояния ее вывел гулкий удар в окно. Вздрогнув и кинув быстрый взгляд в его сторону, женщина увидела улетающую ворону. Птица, хрипло, простужено каркая, сделала круг над садом и села на высокую березу. На дереве сидело несколько нахохлившихся, мрачных, черных птиц. На мгновение Медведице почудилось, что это не вороны, а семь маленьких злых старушек-сестер. Она закрыла глаза, провела ладонью сверху вниз по лицу, сжимая его до ощутимой боли. Птицы поднялись в небо, скрылись. Ввалились с улицы гурьбой разгоряченные, румяные братья Ветровы. От них веяло здоровьем, свежестью, юностью. Пахло морозом и снегом. Они набросились на горячие, дымящиеся щи – стук тарелок и ложек, возгласы и шутки. – А где Четверг? – спохватилась мать. Сыновья не услышали. Они, улыбаясь, говорили о сестрах-близняшках Паночкиных. – Понедельник, где наш Четверг? – громче повторила Любовь Ивановна. Старший Ветров округлил глаза. – Не знаю! – Он сказал, что задержится. – ответил Среда. – Хотел зайти в библиотеку… Медведица облегченно вздохнула. Начало смеркаться. С каждым ударом часов, с каждой минутой, секундой, сердце матери стало наполняться тяжелой и вязкой, словно свинец, болью. Она понуро сидела на кухне, прислушиваясь к улице: ни раздастся ли шум шагов, ни скрипнет ли стальная калитка, ни вспугнет ли ночную тишину голос сына. – Ма-а, ты почему не спишь? – вывел из оцепенения Медведицу Воскресенье. – Может, Четверг влюбился? Задержался у какой-нибудь девчонки и вот-вот придет... – Пошли, сынок, его поищем, а?! – в глазах Любови Ивановны мольба. – Пошли, – сразу согласился Ветров младший. Они бесшумно оделись и вышли с фонариком в морозную ночь – тихую, лунную. На острове фонари стояли, но ни один не горел. Дома, деревья, предметы были укутаны зыбким, холодным светом. Светом полной луны и ярких звезд, отраженным и рассеянным высокими сугробами снега. Мать с сыном обошли весь остров и отправились к большому мосту. Стоя на нем, Медведица несколько раз надрывно крикнула: Чет-верг! Чет-верг!.. Глухо залаяли собаки в селе Запечье. Одна из них протяжно и тоскливо завыла. Вспорхнула с дерева темная птица. Пролетая над Ветровыми, она на мгновенье закрыла собою полную бледную луну. – Мама, пошли. Он, наверное, уже дома, – успокаивал Воскресенье. Ветров седьмой заметил в любимом своем созвездии Большая Медведица отсутствие одной звезды. Матери о своем открытии он ничего не сказал. Промолчал. Четверг и вправду из школы зашел в городскую библиотеку. В ней было пусто и тихо. Пахло книжной пылью и плесенью. Две библиотекарши – толстозадые дамы бальзаковского возраста пили чай-каркаде с бубликами и гадали по «Евгению Онегину». Одна задавала вслух вопрос, другая открывала роман в стихах на случайной странице и, закрыв глаза, тыкала пальцем в первую попавшуюся строку. Читала. Вместе они, порой долго, расшифровывали загадочный, туманный, многозначительный ответ. Одна из них бегло глянув поверх очков на Ветрова, машинально обронила: – Выбирайте на полках, молодой человек! Парень подошел к стеллажу и взял первую попавшуюся книгу. Открыл и прочитал: «…И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – Такая пустая и глупая шутка…» Библиотекарши уже пили по третьей или четвертой пол-литровой кружке чая, доедая увесистый куль бубликов, когда Ветров четвертый молча вышел на улицу, повторяя, твердя про себя две вычитанные в книге строки. Он брел, словно сомнамбула, не сознавая куда и зачем. Вывел юношу из полузабытья маленький, толстенький старичок с большой, пышной седой бородой. Они стояли в лесу у Плешивой горы. Старичок суетливо и сбивчиво, то плача, то нервно смеясь, хлюпая носом-картофелиной, что-то долго рассказывал Четвергу. Его речь была также нелепа, как и внешний облик: крупные, рельефные черты лица ,«толстовская» борода, а на голове рваный, замусоленный блекло-желтый платок. Ветров из путаных речей странного встречного понял следующее: старик – Прошлый год. На протяжении года им жили, о нем говорили, в каждом доме весели календари с его именем, а после новогодней ночи о нем все напрочь забыли. Вчера его в лесу встретили две пьяные, неряшливые бабы. Побили, раздели и надругались. Его вещи забрали, а ему бросили в лицо свои вшивые лохмотья. Также он жаловался на сугробовских ведьм, бросая ошалело-испуганные взгляды на Плешивую гору. Мол в полнолуние их до сотни собирается на горе. Устраивают шабаш. Мол, начнут все метлами махать и быть небывалой непогоде – вьюге, а сегодня, как раз пик полнолуния… Четверг снял с себя куртку, меховую шапку и отдал их Прошлому году. Попрощался со старичком и двинулся вглубь леса. Полностью обессилив и замерзнув, он сошел с узкой тропы и сел на снег, облокотившись спиной на толстый ствол березы. – Сынок, давай я тебя унесу домой! – Кто здесь? – Ветер! Твой отец! Ты совсем юн. Вся жизнь впереди. Ты сегодня поддался минутному настроению и делаешь самую большую глупость. Цена этой глупости – жизнь! – Я жил-жил и все гадал – кто мой отец. Оказывается, Ветер… – Сынок, еще не поздно!.. – Благодарю, не надо. Я хочу спать. Желаю уснуть навсегда. Я здесь чужой. Изгой… Счастья нет, есть воля и покой. Покой на погосте, на нем же ты волен от всего и вся… В полночь завьюжило. Со стороны Плешивой горы неслись дикие, нечеловеческие голоса и звуки, приглушенные шумом леса, шепотом падающего снега. Ветер в эту ночь неистовал, буянил, сходил с ума. Последний интеллигент (17) В сей сказке я поведаю не только о семье, роде Ветровых, но и о других обитателях острова и города Сугробска. Автор им отдаст отдельные главы, которые, надеюсь, дополнят картину жизни, послужат фоном для главных героев. Ни на диком же острове живут Ветровы… То-то же! Итак, приблизительно за год до развала Великой империи в маленьком, ветхом домике на улице Островной небольшая странноватая группка людей поминала последнего интеллигента города Сугробска. Сорок дней назад он тихо, во сне, с чистой, детской, беззубой улыбкой ушел из этого порочного и суетного мира. Он был эфиоп. Да-да! Эфиоп! Последний интеллигент и последний клоун из того интернационального цирка, гастроли которого прервала братоубийственная война. За столом чинно сидело несколько ветхих ретро- старушек, пахнущих нафталином, двое смуглых сыновей умершего, несколько менее темных внуков и правнуков с женами, сожительницами, подругами. На дворе цвела черемуха. Сидя на высоких, толстых ветлах у Сугробки заливались соловьи. Им подпевали, как умели, лягушки. – Редкий человек был Африкан Эфиопович, – нарушила тишину одна из старушек, пряча желтые, усохшие ручки в рыжую облезшую муфточку, – со всеми был на «вы», даже с кошками и собаками… – Да-да, – поддержала ее другая, прикуривая беломорину. – Он мне как-то рассказывал со слезами на глазах, что, не желая того, раздавил таракана. Так, потом три дня себе места не находил, три ночи не спал. Мол грех на душу взял – невинную букашку жизни лишил… – Всем женщинам, – проснувшись, заметила третья старушка в шляпе с вуалью, – ручки всегда целовал. Начиная от трехгодовалой девочки и заканчивая стотрехлетней женщиной. Жалел он и понимал женщин. Берег нашу сестру… – Истинный интеллигент был, – добавила старушка с китайским старинный веером. – Интеллигент! Он даже картошку копал в белом фраке с цилиндром на голове, при строгой черной бабочке… Ему легче было отдать, чем взять… – Да-а, человечищем был, гигантом! – вставил окосевший от водки Везувий Отрыжкин – корреспондент местной газетенки. – Мне всегда мелочь давал, если на пузырь не хватало. Обратно денег не брал, отмахивался и отшучивался… Тихую, мирную беседу нарушил шум, гвалт из дома напротив. Там веселенькая компания отмечала рождение сына, внука и правнука в одной ипостаси. Заглушая соловьиные трели и лягушечье кваканье, соседи пьяными, нестройными голосами затянули: «…Эй, мороз, мороз! Не морозь меня!..» – Босяки! Быдло! – рявкнула старушка с беломориной и зло расплющила окурок в пепельнице. – Да, мужланы! – поддержала старушка с веером. – Наши клоуны слыли высоковоспитанными людьми. Их дети, внуки и правнуки многое сделали для Сугробска и всей страны. Несколько депутатов и генералов, один министр, другой советник самого… Соседи пустились в пляс. Они всей родней выскочили на улицу. На гармошке наяривал Санька-Чайник. Поднимая клубы пыли ногами, радующиеся визжали, пели, обнимались, целовались, падали на земь, кое-как вставали… – Безобразие! – промямлила обладательница рыжей муфточки и потеряла сознание.Она, обмякнув, уронила голову на плечо одному из правнуков Африкана Эфиоповича. Потомки последнего интеллигента выскочили на улицу. Между скорбящими и радующимися началась потасовка, переросшая в свалку. Северный ветер пригнал две огромные хмурые тучи. Сойдясь вместе они приобрели форму мясистого сизого зада. Казалось, еще мгновенье и небесный Некто сядет на остров, давя домики, людей, их живность, все живое и мертвое, все скорбящее и радующееся, все молчащее и говорящее… Раздался гром. «Зад» метнул молнию. Вспыхнула гигантской спичкой старая, вековая ветла у реки. Гроза! Ливень! Дерущиеся барахтались на земле. Их одежда, лица и руки были в грязи и крови. Вечер (18) – А не отведать ли нам индюка? – почесав рукой свою яйцевидную голову, обронил Понедельник. – Хорошо бы! – согласился Пятница. – Я видел недалеко, в Запечье одного. Ни индюк, а слон! Беру его на себя. – Да! – поддержал братьев Среда. – Все ж выпускной вечер. Школа – ту-ту-ту!.. Сестер Паночкиных пригласим. Стоял летний вечер. На небе мерцало несколько сиротливых звездочек. На берегу Сугробки пылал костер. Среда в стороне нанизывал на шомпола куски белого индюшиного мяса. Недалеко от огня было расстелено ветхое лоскутное одеяло «солнышко». На нем развалились братья Ветровы, сестры-близняшки Паночкины и подружка Понедельника - Вероника Несмеянова. Парни, кроме стянутого индюка, прикупили дюжину бутылок «Волжанки» – яблочного вина, разных вкусностей и сладостей. Выпили, закусили первой порцией жареной птицы. Растянувшись в центре «солнышка» Ветров первый, ковыряясь спичкой в зубах, усмехнувшись, обронил: – О чем будем калякать? О водке, СЕКЕСЕ или смысле жизни? – О любви! – горячо предложила Рая Паночкина и зарделась. – Любоф? – переспросил яйцеголовый. – Любоф так любоф. Не ковыряйся в носу, змей, когда я ковыряюсь в зубах, – шикнул Понедельник на Вторника. Тот недовольно замычал. – Итак, Любоф – это шиза! – Но-о-о! – протестующе воскликнули дуэтом Паночкины. – Любоф – это хрясь кирпич на башку. Искры из глаз, головокружение, тошнота. Очухался. Прошло время. Ждешь нового кирпича… – И тошнота? – кокетливо поправила прическу Ада Паночкина. Ветровы сестер различали по шелковым разноцветным платочкам на тонких, смуглых шейках. У Раи – белый в черный горошек, у Ады – черный в белый горошек. – Тошнота, говоришь? Все хорошенькие девушки похожи на весеннюю землю, ждущую семени… Что-то ты, Вероника, скисла, – повернулся Понедельник к своей подружке. – Не в духах сегодня. О ком или о чем грустишь, красивая? – Ты редкий циник! – тихо ответила девушка. – Все женщины хотят от мужчин белого хлеба с белым шоколадом, а в реальной жизни иначе. Белый хлеб с черным шоколадом или черный хлеб с белым, а чаще черный кислый хлеб с черным, соевым, якобы, шоколадом… – Умняк ты однако, – подколол старшего брата Среда. – Словно сто лет прожил. Откуда все это? – Книжки надо читать, Среда. И ни только читать, а еще сопоставлять, соизмерять, и, конечно, думать. Я же учился и учусь не только для того, чтобы прочитать в сельпо название колбасы и водки, и правильно за них рассчитаться. – Утомил! Пойду лучше «джакузи» натуральное приму! Парни Сугробку именовали «джакузи». Речка была мелкой и быстрой в течении. Братья обычно садились на дно, как на пол, только головы торчали над поверхностью. Вода же упруго ласкала тела, бурлила, пузырилась… –Воскресенье, – обратился яйцеголовый к самому младшему брату. – Ты у нас теперь за покойного брата Четверга. Тоже любишь философию. Кинь, змей, несколько тезисов. Или слабо? – Можно! – отозвался Ветров седьмой. – Любить надо равных и дружить с равными себе. Тут все: и достаток, и интересы, и набор ценностей… – Какие кружева плетет, а-а?! – ухмылялся захмелевший старший брат. Воскресенье, не обращая внимания на едкие реплики яйцеголового, продолжал: – Человек живет от любви до любви. Она же, любовь, есть мечта. Получается, от мечты до мечты – они верстовые столбы на его, человека, пути… – От-т, змей! Как загнул! А-а! Я же скажу стихами… Люблю любофную любоф! За ней отдам последний капля кроф! – Ты сегодня невыносим! – возмутилась Вероника. Она вскочила на ноги и быстро пошла в темь ночи. – Пусть идет! – махнул рукой Понедельник. – Словом можно убить! – осуждая старшего, сказал младший Ветров. – Оно крепкое, словно спирт и убойное, словно пуля… – Воскреся, хватит умничать. Между нами, братец, целая неделя. Мы полярны с тобой. Я – прагматик, ты – романтик, пустой мечтатель… – Как посмотреть, – спокойно парировал младший. – Между вечером воскресенья и утром понедельника – одна ночь! – Хватит вам умничать! – остановил их Суббота. Взял в руки гитару, настроил и запел глубоким, с хрипотцой голосом: – Мы себе давали слово – не сходить с пути прямого… Вот, новый поворот! Что он нам несет!.. – дружно, с куражом и надрывом подпевали музыканту все остальные. – Пропасть или взлет! – откликнулось им из темноты. У костра, покачиваясь, остановилась Слониха – рослая, крепкосбитая толстушка. – Ну и голосок у тебя, Слониха, – заметил яйцеголовый, – им ни то, что петь, им из туалета лучше не кричать «Занято!» Ибо, кто на очереди с перепугу в штаны наделает… – А то-о! – коротко бросила Слониха, она же Марья Перинова. – Станцуешь нам танец живота? – спросил Суббота. – Я подыграю на гитаре! – А то-о! И нашим и вашим за пол литру спляшем! – Держи! – Пятница протянул Марье открытую бутылку «Волжанки». – А-а-а, закусь? – На-а! – ей дали шомпол с несколькими кусками мяса. – Начинай, гонимый Паганини! – махнула рукой танцовщица гитаристу. Суббота, ловко перебирая серебряными струнами, стал выводить восточный мотив. – Сейчас будет танец больших слонов, – улыбнулись сестры-близняшки. Перинова задрав вверх руки – в одной бутылка, в другой – закусь, стала энергично покачивать бедрами. Ее пышная грудь и пухлый живот тряслись, дергались. Танцуя, Слониха пила и закусывала, слала воздушные поцелуи и пела: Биби меня в дуду! – Баобабистая бабочка! – бросил комплимент, вышедший из речки Среда. Выпив вино и съев закуску, Перинова лихо, словно гранату, метнула бутылку на противоположный берег, шомпол же вонзила рядом с собой в землю. Потянулась до хруста в суставах и томно заявила: – Музыка была! Хочу музыкА! Понедельник, усмехаясь, стал подталкивать Вторника. Тот, набычившись, мычал. – Мужчина в голубом, пригласите даму, – обратилась Марья к Ветрову второму. Он напрягся, одеревенел, только: – М-м-м… – Мадам, разрешите, я вас потанцую, – пьяно предложил Пятница. – А то! Мяса, пива не желаю. Можно сеновал!.. Они обнявшись покинули компанию. – Дурень, ты дурень, Вторник! – скорчил брезгливую гримасу Понедельник. – У тебя невесту из под носа увели. Интересно, ты какой ягодицей думаешь? Правой или левой? Или обеими?.. – М-м-м.. Иди ты!.. – А-а-а! Не-ебо-о! Ка-ако-ое зве-езда-а-то-ое!.. Разрыв (19) Вероника Несмеянова в последнее время много плакала. Сидя у зеркала, она вытирала уголком скомканного и влажного носового платочка обильные слезы, бегущие из припухших, покрасневших глаз. – Семья?! – грубо переспросил Понедельник. – Какая семья? Каждый день новая серия «Санта-Барбары». Сериал затянулся! – помолчав, он добавил. – Хорошая рифма на «Юность» слово «Глупость»! Не правда ли? – Ты даже самое хорошее, самое светлое умеешь очернить, втоптать в грязь… Циник! Эгоцентрик! – глядя в зеркало, плачущим голосом, с ноткой истерии, бросила девушка. – Что ты все пялишься в зеркало? А-а? Глядишь и думаешь, наверное, красота спасет мир. Твоя красота. Так? Она резко повернулась к нему. – Не смотрите на меня так, девушка, а то я целоваться полезу. – Хам! – Слышал уже сто один раз. Давай лучше этим займемся. У меня молоко закипает. Скоро убежит. Любви и ласки хочу… – Уходи! Уходи навсегда! – Ухожу! – Ветров наотмашь хлопнул дверью, посыпалась с косяка штукатурка. В полутёмном подъезде Понедельник столкнулся со стариком. Чуть его ни сбил с ног. -Кхе-кхе! Поздравляю с разрывом отношений! - незнакомец ,увешанный медалями, хлопнул парня по плечу. --Вы кто, дедушка? --Вездесущий Быт Обломович! Топ-топ-топ! - стукнул об пол деревянным протезом старик. --Странное имя? Всего доброго, Быт Обломович. --Не прощайся, юноша. Кхе-кхе, мы ещё не раз встретимся… Понедельник бросил Веронику Несмеянову. Через несколько месяцев у нее стал обозначаться живот. Гинеколог – старая мужеподобная женщина с усиками – вынесла приговор: «Седьмой месяц. Аборт делать поздно, опасно. Пусть рожает…» Родители Вероники, чтоб скрыть «позор», сослали дочь на глухой хутор к дальней родственнице. Там она и доносила плод своей несчастной любви и, в положенный срок родила крепкого, крупного мальчика. Ребенок на некоторое время остался жить на хуторе. Вероника же вернулась домой. Молоденькая мама надолго забыла, что такое смех, радость. Так Понедельник Ветров в восемнадцать лет стал отцом. О сыне он узнал много лет спустя. Бонапарт взял Москву (20) – Биби меня в дуду! Я щас! – Слониха поскакала к покосившемуся туалету. Его крыша выглядывала из буйных зарослей сорняка, оккупировавшего весь двор и огород Машки Периновой. Вторник приходил на свидания к девушке ни с цветами и конфетами, а с бутылкой самопляса или с парочкой «Волжанки». Прошла минута, другая, полчаса. А невесты все нет. Ветров второй, недовольно мыча, отдирая репей от штанов и рубашки, обжигая руки и лицо о крапиву, кое-как добрался до злополучного туалета. Из него раздавался раскатистый храп – Перинова уснула после спиртного, сидя на «очке». Жених попытался открыть дверь, но она ни в какую, словно вросла. Зашел с другой стороны и заглянул в щель между досками. В полумраке призывно маячил толстый, розовый зад Слонихи. В Ветрове проснулся дикий африканский слон. Выломав с сухим треском несколько досок, он, кое-как влез в тесную кабинку сортира. Послышались шум, возня, сопение. Туалет начал, поскрипывая, раскачиваться из стороны в сторону, того и гляди рухнет. Через мгновенье из него раздалось – Ой! Не верю! Ой, не ве-ерю-ю! –воскликнула Машка. Через несколько минут послышались сладострастные стоны Слонихи и утробное, глухое мычанье Вторника. Сортир не выдержал и повалился на бок, вместе с парочкой... * * * Ночью Шарлота Щукина – мать отставного полковника КГБ – в своем журнале сделала запись: «… Он ее взял, как Бонапарт Москву… Москва пылала…» Днем, сидя на высокой березе с мощным биноклем, тетя Шарлота наблюдала за молодыми людьми. Впрочем, ни только за ними. Она подслушивала, подглядывала, одним словом - отслеживала всех жителей острова. * * * Вечером, когда Медведица кормила сыновей ужином, Вторник заявил: – М-м-ма, я женюсь на Маше Периновой! Среда поперхнулся хлебом. – Дремучий ты, Вторник! Тебе бы в лесу жить, в берлоге, – саркастически усмехнулся Понедельник. – Она же толстое, неряшливое и похотливое животное – твоя Машка. – Я, м-м-м, женюсь! – набычился жених. – Мам, я извиняюсь, но скажу при тебе, – прокашлялся Ветров третий. – Таких, как Слониха, братец, за стакан мутного пойла всяк-перевсяк на порванном засаленном матрасе! Понял! – Сынули мои, не ссорьтесь, – сникла Любовь Ивановна. – Что ты хочешь от него, Среда? – злился Понедельник. – Он же любитель газет с голыми задами на первой странице. Заметь, он их не читает, только картинки смотрит и мычит… – Я женюсь! – был непреклонен Ветров второй. * * * Через пять месяцев после «взятия Бонапартом Москвы», Марья Перинова родила двойню. У малышей должен быть отец. Им стал Вторник. В тюрьме (21) – Жизнь – бои без правил. Кто играет по правилам, гибнет первым, – хмурился Среда. – Это я понял здесь. Лежа на нарах и мучаясь бессонницей. Здесь много типов и типчиков, живущих по принципу «Мед на устах и нож в руках». Да, и там, на воле, таких тьма… Кто-то из соседей по улице анонимно сообщил в милицию (возможно Шарлота Щукина), что Ветровы украли индюка и, будучи пьяными, жарят его с девицами на берегу Сугробки. Общий грех взял на себя Ветров третий. Ему дали два года колонии общего режима. – Непутевый ты у меня, – с нежностью провела рукой по бритой колючей голове парня девушка. – Я тебя, может, поэтому и люблю, что непутевый. – Да есть немного. Меня менты там, – Среда кивнул в сторону улицы за решеткой, – принимали за бандита, бандиты за мента, а психи обниматься лезли… – виновато улыбнувшись, он приобнял Паночкину. Она стыдливо опустила глаза: – Не думала, не гадала, что у нас с тобой первый раз будет здесь, в комнате для свиданий. – Я тоже… Сестренка твоя, так и не нашлась? – Нет. На берегу речки, недалеко от церкви нашли ее черный платочек в белый горошек. Аду же нигде не нашли. Родители с ума сходят… А она тебя сильно любила, Среда. – Я догадывался, но ты мне милее, – он крепко прижал к себе девушку. Она заплакала. – Ты чего? – Так, – Паночкина безвольно махнула рукой. – От счастья и сестру жаль. – Мне тоже. – Где-то белые ночи, милый, а у меня черные дни, только вот сегодня – светлый и солнечный, хоть и дождь на улице. – Дождешься меня, Раечка? У нее снова покатились по щекам слезы: – Дождусь, непутевый. Дождусь. Куда я от тебя денусь. Меня к тебе тянет, аки железяку к магниту… Когда влюбленные выходили из комнаты для свиданий, надзиратель, с маслом в глазах, ехидно заметил: –Забавно вы кувыркались, Забавно! Доставили мне удовольствие… – Ты подглядывал? – Не подглядывал, а следил за порядком, – обнажил в улыбке кривые зубы страж порядка… Среда плюнул обидчику в глаза… Ветрову третьему увеличили строк. Черная меланхолия (22) Говорят люди: «Какой человек, такая у него и любовь». Кто ведает, как любил бы женщину Четверг. Мы этого уже не узнаем. Его спутницей при жизни была Черная Меланхолия. Кто о многом догадывается и тонко чувствует , как правило, рано умирает. Если бы Ветров четвертый жил не среди людей, завися от них, среды, быта.., а на каком-нибудь «райском» необитаемом островке наедине с пальмами, попугаями и теплым океаном, то все равно ему пришлось бы считаться с погодой, урожаем бананов… «Счастья нет, есть воля и покой. Покой на погосте, на нем же ты волен от всего и вся…» – видно ему не единожды шептала эти слова Черная Меланхолия. Шептала-шептала… Призрак клоуна (23) По Сугробску поползли слухи, что на юбилейных именинах мера города – Адольфа Наполеоновича Македонского появлялся призрак рыжего клоуна. Мол, призрак дал о себе знать, когда в гостевой зале погасили свет и именинник тужился, туша пятьдесят свечей на праздничном торте. Министр культуры города товарищ Жарптицин рассыпал словесный бисер в честь юбиляра: «…Золотая голова в серебре седин… Золотой болт в железной машине государства… Чтоб вы своим последним вздохом спустя полвека затушили сто свечей на именинном пироге…» и прочее, прочее. Мол, когда все сладко вздыхали и заискивающе хихикали, в темноте раздался замогильный смех. От него веяло потусторонним холодом и мраком. У гостей сердца ушли в пятки. Кто-то дрожащей рукой включил свет и все приглашенные увидели рыжего горбуна с сорокой на плече. Птица скороговоркой прострекотала: – Великая империя распадется на части, также как вы разрежете и разберете куски именинного торта… Ждите перемен!!! После чего призрак, гогоча, исчез. Жители Сугробска заметили, что Рыжий горбун обычно появляется перед большой бедой, несчастьем. Он был вестником голодомора, предсказал вторую Великую войну… В городе жило предание. Мол, рыжий горбун при жизни состоял в интернациональном цирке. Его амплуа – печальный клоун. О его кончине ходили разные слухи: ни то он умер от смеха, глядя на «достижения» советской власти, ни то был жестоко, зверски замучен в застенках ЧК. Пьяный пруд (24) За месяц до развала Великого Союза на сугробском спиртзаводе, что на окраине города, случилась авария. Несколько десятков тонн чистого пищевого спирта попало в близ находящихся пруд. Эта весть быстро, раньше газет и местного радио с телевидением, облетела весь город и окрестные села. Это было странное, жутко-комичное зрелище. Сотни людей, в основном мужчины средних лет, набирали в пруду ведрами, флягами, бидонами воду-спирт и, пошатываясь, волокли домой. Многие пили на месте и тут же падали, валялись. Пьяная оргия продолжалась несколько суток кряду, пока полностью не выпили пруд. На его дне обнаружили трех утопленников из числа пьющих. Те, кто пил воду-спирт, превратились в козлов: они стали задиристыми – лезли бодаться, от них, мягко говоря, дурно пахло… Врачи были удивлены сей метаморфозе. К счастью, болезнь прошла. Пившие из пруда снова стали людьми, но все же что-то в них, при внимательном взгляде, было козлиное. Но один подросток так и остался козленочком. Не послушал старшую свою сестру: – Не пей, братец Иванушка, козленочком станешь… – внушала она ему, но безуспешно. Пятница тоже был на этом пруду. Его взял с собой Санька-Чайник. Пришел домой Ветров «на рогах». Любовь Ивановна и ругала сына, и стыдила, и умоляла больше так не напиваться. Это событие вошло в историю Сугробска и стало неофициальным грустно-смешным праздником. Жители города и окрестных сел дали этому «торжеству» несколько имен: «День козла», «Пьяный пруд» и «Три утопленника». Отмечался он с великороссийским размахом: ярмарка, гулянья, ну и само собой, потребление белого золота России – водки. Нефертити и Ляля (25) Ветрова пятого Медведица послала в магазин за хлебом. Семья большая – каждый день надо много хлеба. Мать дала сыну вместительную авоську и денег. Пятница, насвистывая мотивчик из репертуара Майкла Джексона, двинулся переулком между домами к речке-ручью Нехайке. Раскачиваясь, словно канатоходец, прошел по узкой жерди через речку «Вонючку» и направился через пустырь – мусорную свалку к запеченскому магазину-вагончику. В десяти шагах от цели Ветрову перебежала дорогу толстая, рыжая неуклюжая курица. За нею мчался тощий, бесхвостый петух. Преследователь был более проворным и сразу же нагнал строптивицу. Потоптал ее, потоптал и победно прокричал: Ку-ка-ре-ку! – Ку-ка-ре-ку, Ку-ка-ре-ку! – передразнил парень. – Мне тоже, может быть, хоца по-кукарекаца, – смачно плюнув в сторону магазина, Ветров развернулся на сто восемьдесят градусов и направился к большому каменному мосту. На нем Пятница, как-то раз, уже знакомился с одной девушкой. Решил еще раз попробовать. Почти в центре моста, облокотившись о перила и глядя на быструю воду Сугробки, стояли две девушки. У одной аппетитные ножки в оранжевых колготках, у другой – розовая копна волос и такого же тона большие, в виде двух бабочек, солнцезащитные очки. Ветров пятый для храбрости взял в ларьке у моста бутылку «Волжанки» и тут же на месте, прямо из горлышка, ее опустошил. Походкой в раскачку приблизился к незнакомкам и присел на перила. Помолчав, попросил: – Бабочки, снимите меня! Они сдержанно хихикнули. – Сегодня вода в речке грязная. Видно выше по течению бомжи моются, – сострил Ветров и, не желая того, икнул. Покраснел. – Все-таки мужчины гадкие, отвратительные животные! – заметила в розовых очках. – Да, – поддержала ее в оранжевых колготках, – но с ними веселее. – Может, девчонки, двинем в ближайшую забегаловку-выползаловку? – парень подмигнул «оранжевым колготкам». «Розовые очки» задрали брезгливо носик. – Я конечно не Ален Делон, но и не Крамаров… Девушки захихикали, прикрывая ротики ладошками. – А программа развлечений поинтереснее есть? – учительским тоном спросили «розовые очки». – Гм-м, – на несколько секунд задумался молодой человек. – Есть! Ужин у костра на берегу Сугробки. Меню: горячая печеная картошка и медовый самопляс. – Что за «самопляс»? – Самогон! – уточнил он. – Дальше? – Ночь на сеновале. Звезды, пенье птиц… – А вы, молодой человек, поэт, также как я, – уже более смягченным тоном заметила «розовая». – Я Нефертити! – представилась она, – А это Ляля, Она музыкантша… Ляля сделала реверанс. – У вас, Ляля, красивые ножки, словно сладкие морковки, – сделал неуклюжий комплимент Пятница. – Про-о-тивный! – капризно пропела музыкантша. – А вас, молодой человек, как величать? – поинтересовалась Нефертити. – Пятница! – О-ля-ля! Пятница? – Долго, бабочки, объяснять. – Ну хорошо. Потом расскажешь, на сеновале, – примирительно бросила поэтесса. Ветров ловко соскочил с перил и предложил подружкам взять его под руки. Смеркалось – шар земли поворачивался к Солнцу другим боком. – Ляле вы уже сказали комплимент про ножки-морковки. А теперь мне! – Может, бабочки, будем на «ты»?! – Давай, комплимент, поэт! – Гм-м, – задумался Пятница, – стихами? – Попробуй. – У Нефертити красивые тити! – выдохнул Ветров. – Глупец! – не зло отреагировала девушка. Это стихи типа «Любовь не морковь, любовь – это кровь…» – О-ля-ля. Опять про мои красивые морковные ножки! …Они шли по острову. Узкая тропинка вилась вдоль речки. Недалеко крепкая, низкорослая женщина возила на тачке свежий навоз за изгородь и ссыпала в кучу. Большая куча. Ветерком принесло приторный запах навоза. – Кому нюхать розы, а кому рыться в навозе, – продекламировала поэтесса, брезгливо зажимая вздернутый носик белыми, холеными пальчиками. – Деревенскому человеку в большом городе становится дурно от шума, копоти и угара. Навоз же родной по духу. А го-род – с- ким, – растянул слово, словно жевательную резинку, парень, навоз – тьфу и фу, а гарь, дым и шум в кайф! Кто из них прав? Через сотню шагов компания встретилась на тропе с дедом, тянувшим за собою козу. Это был хохол Тарас Тарасович Хлещиборщ – большой любитель самопляса и окрошки с салом. У старика было пепельно-синеватое одутловатое лицо с крупным, пористым, словно пемза, носом. Дед улыбнулся беззубым ртом и заговорщицки подмигнул подружкам. – Ах, этот дедушка! Подмигивает девушкам! – зарифмовала Нефертити. – Мужчины, даже умные, при виде хорошенькой ж-ж-женщины перестают думать головой. Начинают думать, пардон, ж-ж-попой, – сострил Ветров – А ты неглуп, – сказала Нефертити и внимательно посмотрела на Пятницу. – Сколько тебе лет? – Мне, вообще то, стовосемнадцать. – Протии-ивный! – Но выгляжу на сто лет моложе. А вам по сколько? – Глупый дурак, девушкам такие вопросы, обычно, не задают. – Но мы же подружки, – улыбнулся озорно Ветров. – Ладно, – стала снисходительней Нефертити. – Нам с Лялей скоро стукнет сорок пять на двоих… Парень подружек не обманул, не разочаровал. Они на берегу Сугробки до полуночи жгли костер, пекли картошку, пили самопляс, купались в уже холодной воде реки. Выпив, Ляля много пела, а Нефертити говорила стихами. Ночевали они на сеновале. Перед тем, как забыться крепким , здоровым сном, долго разглядывали ночное небо, слушали стрекот сверчков. Пробудились ребята рано от прохлады, идущей с реки, клубящегося тумана, росы и криков домашней птицы, скотины. Не обошлось без казусов и потерь. Нефертити сломала каблук-шпильку, Ляля – потеряла редкую пуговицу с кофточки. У Пятницы же, скакавшем на стоге сена горным козлом, располовинились по шву в пахе штаны, что вызвало у подружек долгий, до слез, смех. Утром Ветров пятый напоил девчонок парным молоком и увез в город на стареньком, но крепком велосипеде: Нефертити – на раме, Ляля – на багажнике. * * * Тетя Шарлота всю ночь просидела на соседнем стоге сена с прибором ночного виденья. Вела наблюдение за Пятницей и его подружками. Очень устала старушка – возраст. Утром Щукина, положив под язык кругляш валидола, дрожащей рукой нацарапала в своем дневнике следующее: «… Встречались Сталин, Рузвельт и Черчилль… В Тегеране было жарко…» Суббота, Воскресенье и Вовка Волчаров (26) Стоял обычный летний вечер. Воскресенье услышал тоскливую, томную музыку, льющуюся со стороны реки. Словно кто-то звал кого-то или прощался с кем-то. Седьмой Ветров пошел на звуки. На берегу Сугробки одиноко сидел Суббота и, в задумчивости, перебирал пальцами на гитаре струны. Воскресенье присел на траву рядом с братом. Несколько минут они молчали. Только шум бегущей воды, шелест листвы да пение гитары. – Что случилось, братишка? – спросил младший. – Рая! – ответил старший. – У тебя, я вижу, тоже не все в порядке. Марина? – Да, она… – Мы с Раей хотели пожениться, но после исчезновения Ады, она изменилась. Стала со мной холодной, неразговорчивой. Она, Рая, теперь со Средой. Я понимаю, ему плохо, он в тюрьме, но хоть бы объяснилась со мной. Я бы постарался ее понять. Послышался шум: крики, смех, мат, надрывался, хрипел магнитофон. К реке приближалась веселая компания. – Привет, Ветровы! – окликнул братьев Вовка Волчаров. Он был в пятнистой военной униформе, держался хозяином жизни. Компания парней и девчат расстелила на траве цветастую скатерть и стала на нее выкладывать закуску с выпивкой. Вовка быстро, словно засекли время, разделся до гола и бросился в воду. Фыркая, отдуваясь, он искупался и враскачку подошел к Ветровым. – Что носы повесили? – комично приподняв широкие, черные брови, поинтересовался Волчаров. «Густые брови, пышные усы – трое усов на лице», – отвлеченно подумал Воскресенье о знакомом. – Лучше воевать с кем-то, чем с самим собой, – философски продолжал обладатель «трех усов». – А вы все роетесь в себе, о смысле жизни думаете. От того и скисшие. – Ты сейчас где, Володя? – решил сменить тему разговора Воскресенье. – Сейчас рядом с тобой. А вообще в горячей точке. Платят с лихвой. Там ни до умностей, ни до философии. Главное, чтоб голову пулей не продырявили, чтоб нож в спину не вогнали. Так-то, братцы… Компания тем временем уже хорошо выпила, закусила и под блатные песни, льющиеся из динамика магнитофона, бросилась в пляс. Парни ржали жеребцами, девчонки удовлетворенно повизгивали. Воскресенье, глянув на запеченских девчонок, резвящихся на берегу в ярких, безвкусных купальниках, отметил: «Деревенские бабочки, как правило, невысокие, крепкоскроенные. Имеют короткие, толстые ноги и веселый, жизнерадостный нрав. Да, мне бы их нрав, не копался бы в себе, не мучил бы себя…» – Присоединяйтесь к нам, – предложил братьям Волчаров. – Не сегодня, – отказался Суббота. – Зря. Я пошел карнавалить. Пока! Осенью шестого и седьмого Ветровых забрали в солдаты. Понедельника и Вторника военкоматовская комиссия забраковала. Среда находился в тюрьме. Пятница сдал документы в школу милиции. К Новому году родителям Вовки Волчарова привезли издалека цинковый гроб. Вовка очень любил жизнь, любил женщин и водку. Война – пьяная, непредсказуемая баба. Он погиб, умер на войне-женщине. Хорошая смерть, только, вот, ранняя… Пятница в гостях (27) Медведица попросила Пятницу сходить в огород, накопать овощей и молодой картошки. Выдернув несколько длинных, тугих морковок, Ветров пятый вспомнил аппетитные ножки Ляли в оранжевых колготках. Копая картошку, парень вытащил из земли картофелину в виде буквы «л». Она ему всколыхнула кровь второй раз за несколько минут. Корнеплод чем-то напоминал роскошный бюст Нефертити. «Это не случайно. Это знак свыше!» – подумал Пятница. – Надо сегодня завалиться к подружкам…» Ветров нарвал огромный букет диких цветов у реки Сугробки, взял пол литра медового самопляса и, оседлав старенький велосипед, отправился в гости. Возле пятиэтажки подружек здоровенная баба в ярком халате вешала белье. Нос, глаза и пухлый рот ее были собраны в кучку, а кругом жир, жир, складки жира. На пудовом бюсте красовались пестрые бусы из разноцветных пластмассовых прищепок, в мощной руке длинный шест для поддержания бельевой веревки, словно копье. Баба приторно улыбнулась, глянув на Пятницу, и басом спросила у старушек, сидящих на лавочке у подъезда. – К кому это такой жених? Те с подозрительным любопытством стали разглядывать Ветрова, пожимая костлявыми плечиками на вопрос соседки. Пятница стушевался. Поднял на плечо «железного коня» и поспешно сиганул в подъезд. Поднимаясь на последний – пятый этаж, он материл любопытную, нахальную толстуху, называя ее «папуасихой» – бусы-прищепки и копье-шест… У дверей квартиры, снимаемой Лялей и Нефертити, он из одного букета сделал два и, волнуясь, нажал на кнопку дверного звонка. Подружки не ждали Ветрова и тем больше обрадовались его появлению. – Ах, какие цветы! А мы свою Маркизу замуж выдаем… Как пахнет букет!.. Жених Лорд. У них должны быть красивые котята… – сыпали слова девушки – Тихо! Какие Маркиза и Лорд? – У нас персидская кошка Маркиза, – начала спокойнее Нефертити. – Ей год. Она еще девочка. Сейчас мы ее и соседского перса Лорда закрыли в комнате. Ждем когда они… ну ты понимаешь… – Когда котят начнут делать, – уточнила Ляля. За дверью послышалось фырканье, базлание и, немного спустя, звон чего-то разбившегося. Девушки, забыв о госте, побежали к дверям заветной комнаты. – Уже несколько часов не могут поладить, дерутся… Кажется, горшок с геранью разбили, – комментировала события поэтесса, нагнувшись к замочной скважине. – Дай я посмотрю! – нетерпеливо приплясывала на месте Ляля. – Можно я гляну на них, – попросил Пятница музыкантшу. Ветров, заразившись от девчонок синдромом «кошачьей свадьбы» с минуту наблюдал за животными, – Маркиза у вас какого цвета? – Дымчатого, а Лорд – рыжеватый. – Оба кота с «бантиками»! – Бантик только у Маркизы. Мы ее перед свадьбой помыли, причесали и бант на шейку повязали. – Я имею в виду другой «бантик», – поднявшись в полный рост, загадочно улыбнулся парень. – «Бантик», что у каждого кота под хвостом. У обоих ваших новобрачных «бантики»! – Не поняли? – округлили глаза, приоткрыли рты девушки. – «Бантики»! Ну, проще говоря, они оба мальчики. «Голубую» свадьбу устроили! – Ты хочешь сказать, что Маркиза – он? – Да! Какие вы сообразительные. Минутная тишина. Ее нарушил грохот в комнате с котами, словно рухнул на пол трехстворчатый шкаф. Девчонки истерично засмеялись. Согнувшись от нахлынувших эмоций, схватились за животы. Несколько минут спустя Ляля вернула кота Лорда соседям. – Надо Маркизе невесту найти! – держа на руках словно младенца, ласкала перепуганного кота Нефертити. – Не Маркизе, а Маркизу, – поправила ее подружка и зарделась. – Ах, эта Ляля! Ну просто краля! – зарифмовал Пятница. Девушка еще больше покраснела. – Ну тебя, про-тив-ный! – Глупый глупец, не вводи в краску незамужних девушек, – набросилась Нефертити. – Давайте, девчонки, самопляса бахнем по грамм пятьдесят, тогда и легче будет говорить на разные темы. Даже о «бантиках» и голубых свадьбах… Подружки пошли на кухню. Стали по быстрому накрывать стол. Хлопки открываемых и закрываемых холодильника и тумбочек, звон посуды. Пятницу оставили в обществе «невесты» Маркиза. Вечер. На сумеречном небе красная луна, словно гаснущее солнце. Пятница и Нефертити стояли на балконе, курили. Ляля после богатого на эмоции дня и спиртного, свернувшись калачиком, уснула на диванчике в своей комнате. – Он за мной долго ухаживал, – рассказывала тихим грудным голосом девушка. – Цветы, конфеты, стихи… – Бухгалтер? – Да. Все было хорошо. Отталкивало от него то, что он часто делал неправильные ударения в словах. Вместо «портфЕль» – «пОртфель» и тому подобное. Я его иногда вежливо поправляла. Он обижался. Раз как-то пришел и сует мне в нос бумажку. Я подумала, что новые стихи написал для меня. А-а нет. Счет! Он выставил счет! – Не совсем понял? – Пятница вжал в пепельницу окурок. – Он, бухгалтер, подсчитал сколько на меня потратил денег. Вплоть до проезда на автобусе. Какая мелочность. Думал меня этим приструнить. Я ему деньги с «чаевыми» вернула и указала на дверь. – Зачем? – Я его этими деньгами хотела унизить, но он, кажется, ничего не понял и с нескрываемой радостью их взял… Вот и весь роман. Раннее свежее утро. Пятницу разбудила муха. Она приставала, зло типая лицо. Он, тихо поругиваясь, укрылся одеялом с головой – оголились ноги. Муха стала щекотать ступни, лазить между пальцев, больно кусая. Ветров поднялся с постели. Заботливо, с нежностью укрыл одеялом сладко спящую Нефертити и отправился покурить на кухню. – Ой-й! – испугалась полусонная и полунагая Ляля, увидев Пятницу. – Ты меня напугал! – Ты пугливая и стеснительная, я вижу, – парень сел рядом на свободный табурет. – Есть немного, – девушка накинула на себя мягкий махровый халат. – Прошлым летом пошла в лес, что за Плешивой горой, по грибы и ягоды. Вот там меня напугали, я аж обделалась… – Да? Расскажи. – Шла по еле заметной лесной тропинке, когда в далеке услышала музыку. Через шагов двадцать я отчётливо различила топот шагов и пение: «…В голове моей опилки… Да-да-да…». Это была песенка Винни Пуха. Не успела я посмотреться в зеркальце, как передо мною неожиданно вырос волосатый и пузатый верзила . Из щели между клокастыми усами и бородою торчала папиросина… - И что тебя напугало? - Он был полностью гол! - Да? - Но это ещё не всё. У него на этом самом… Как бы сказать? - На пупушке,- подсказал Пятница. - Да. У него висел приёмник из которого лилась песня. - А как же он держался? Где? - В туалете на гвозде! - А, я понял. Шляпа тоже может висеть… - Я с перепугу, - продолжала, покрасневшая девушка, - села, точнее рухнула на пень и описалась. А, когда этот дебил хохотнул и следом громко пукнул, я ещё и укакалась.- Ляля подкурила сигарету , - Потом, когда он, матернувшись, скрылся в кустах, я с воплями бросилась к Плешихе, к городу… Через неделю мы всей музыкальной школой отправились искать то место. Нашим дамам было любопытно. Гадали: «Может, это снежный человек?» – Ну что, встретили его? – Да. Он оказался пасечником. Они, их несколько мужиков, в сильную жару ходят по лесу и пасеке в чем мамка родила. Угостили наших дам жареным мясом гадюки. – Змеи? – Да. Главный пасечник высказался, поедая гадючье мясо прямо с огня: «Когда я ем шашлык из гадюки, то думаю о тёще и на душе становится так светло и тепло»… Наши музыкантши-тещи поначалу обижались, но потом, хорошо поддав, лезли обниматься к верзиле бородатому. Зыбкую, робкую тишину микрорайона «Дубки» разрезал пополам металлический рокот мотоцикла. Ляля побледнела. – Ты снова чего-то испугалась? – Это мотоциклист без головы. – Что новая страшилка? – Нет. Это уже не страшилка. Он появился с полгода назад. Это материализовавшийся призрак когда-то погибшего рокера. – А почему без головы? – Говорят, когда этот парень разбился, то у него снесло голову. Она откатилась в сторону, как мяч. Теперь он по ночам носится по городу и его окрестностям и всех пугает. – Кто покойник? – Да! – Тьфу! Ну ты фантазерка, Ляля!.. Пятница спустился с велосипедом вниз, вышел из подъезда. В окне первого этажа парень увидел сонную, в ночной сорочке «папуасиху». Она жадно пила воду из горлышка большого чайника. Ветров ей состроил рожицу. Баба поперхнулась и показала ему мясистый кулак. Когда парень оседлал велосипед, послышался нарастающий гул приближающегося мотоцикла. Несколько секунд спустя возле Ветрова пятого пронесся рокер, дыхнуло раскаленным металлом и бензином. – В самом деле без головы! – вымолвил перепуганный Пятница. – Без головы! Ляля была права… Лучшая подруга Шарлотты Щукиной (28) Тетя Шарлотта, стоя темной, глухой ночью на чердаке у маленького окошечка, насторожилась. Кто-то, тихо поскрипывая лестницей, поднимался к ней. Она, на всякий случай, спрятала прибор ночного видения за спину и вытащила маленький, но мощный фонарик из кармана спортивных брюк. Когда рядом послышалось тихое хихиканье, старушка зажгла фонарик. – Не ждала тебя в гости, дорогая подруга! – тетя Шарлотта расплылась в счастливой улыбке, словно увидела мужчину своих девичьих грез с пышным букетом роз. – Хи-хи-хи! Я, Шарло, в любую шель шалешу, беш мыла… Шо новенького на оштрове? – Пошли, дорогая гостья, чайком с бубликами побалуемся и поворкуем, – пригласила спуститься вниз, в дом хозяйка. – Пошли, шыпленок! – А почему цыпленок? – У тебя коштюм шпортивный шелтый. И шама ты маленькая, шловно штаренький шыпленок. Хи-хи-хи, – прыснула гостья. Щукина проглотила колкую, словно кактус, шутку, промолчала. Она немного побаивалась своей подруги. Старушки сели за стол и, в полглаза глядя по телевизору американскую кинокомедию «Ниже пояса», стали пить чай из больших, похожих на пивные, бокалов, аппетитно хрумкая бубликами. – Ну говори, шо новенького? – не терпелось ночной визитерше. – Тарас Хлещиборщ совсем чокнулся. Ходит в разноцветных тапочках. Один – голубой, другой – желтый. Яичницу жарит в кастрюле… – Шо ешо? – подружка, громко сопя, в удовольствие пила чай, время от времени слизывая длинным раздвоенным языком мутные капли с кончика острого носа. – Местный журналист и поэт Везувий Отрыжкин уже несколько раз являлся домой под утро пьяным с разноцветной губной помадой на лысине. Был жестоко бит женой. – У лышого мушшинки на голове больше мешта для пошелуев. Ешо о шекше? – похотливо потирая костлявые ручки-сучки, просила старушка. – Молодожены Пальмовы, что в трех домах от меня, как мартышки. Она выдавливала ему прыщи на спине. Потом они… Ну ты понимаешь… – Шанималишь шекшом? – Да! После этого он ей чесал голову, словно блох искал… – Ешо, Шарло! – Всех наших островных и запеченских ведьм я знаю. Летают в полнолуние по старинке на метлах. Появилась какая-то новая – жопастая и сисястая. Ненашенская. Из города. Так вот летает на пылесосе «ракета». Я за ней сегодня ночью вела наблюдение… – Да, уш! – ночная гостья напоминала довольную жабу, досыта наевшуюся мошками и комарами. – Давай ешо, Шарло, бубликов под шай. Не откладывай на шавтрак то, шо мошно шъешть ношью! Старуха Шплетня до утренней зорьки слушала новости от Шарлотты. Выходя из дома гостья крепко, до хруста в костях, прижала к себе подругу, прослезилась и вымолвила: – Ты первая лягушка в швоем болоте! Во!.. Плыли гробы по Сугробке (29) Утро. Алые лучи проснувшегося солнца путались в зеленых, упругих побегах камыша, играли яркими всполохами червонного золота на водной глади Сугробки. Клубился, таял белый молочный туман. Птицы пели гимн восходящему солнцу. Им вторили островные и запеченские петухи. На берегу речки сидел в розовой панаме дед Тарас Тарасович Хлещиборщ. Он, тихо покашливая в кулак, дымил «беломором» и удил рыбу. Вздыхая, бормотал: – Му-зЫ-ка!.. Старик сидел уже около часа с удочкой, но рыба, то ли не проснулась, то ли ей наживка не нравилась – не клевала. – Дурна музЫка! – пробормотал Тарас и тут, вдруг – ни рыба клюнула, он увидел плывущий по быстроводной Сугробке, новенький, свежеструганный гроб! За ним другой, третий… Хлещиборщ по началу опешил, моргая красными, заспанными глазками, суетливо несколько раз перекрестился, поклонился серебрящимся в дали куполам сугробовского собора. Минуту спустя стал раздеваться. Снял с головы розовую панаму, с ног – черные галоши и замусоленные, дырявые на пальцах и пятках, когда-то белые, носки, все остальное. Оставшись в просторных, далеко не первой свежести, трусах, поеживаясь и тонко вереща, полез в остывшую за ночь воду. – Хоть бы оделся, бесстыжий, – стыдила пьяненького Тараса Шарлотта Щукина. – А шо-о, на пляжу встречают по трусам, – был невозмутим старик. Он выловил в реке более десяти гробов, рыбки же – ни одной. Рыболов-гроболов, устроил на берегу торговлю гробами, точнее бартер. Он обменивал «деревянные костюмы» на все, что горит (водка, самопляс, спирт, тройной одеколон…) Благо на острове жило много старушек и старичков, готовящихся в последний путь. – Пей, родной, пей горькую! Сейчас земля мягкая – пух! Не тяни до зимы. Зимой земля твердая – лопата ее плохо берет! – зло ехидничала Щукина, у которой Тарас, за выбранный ею гроб, выманивал три бутылки водки. – Если закусь принесешь. Хрен в томате какой-нибудь. Тогда два пузыря… – Шустрый больно. Вы хохлы, наверное, и на луне есть?! – Не летал, не знаю… Добиваться от такой, як ты, погремушки, благодарности равно, шо поливая березу, ждать урожая яблок. – Кто погремушка? Кто погремушка? Козлище! – стала напирать своим маленьким, сухеньким тельцем Шарлотта на «крупнокалиберного» Тараса. – А ты знойная старушка! – вяло отмахивался он от нее, словно сонная, флегматичная корова от назойливой мухи – Наверное, кипятком писаешь?! – Бесстыдник! Козлище! – Может за мэнэ замуж пийдешь? – А у тебя пенсия большая? – Нет! – Ты не красивый, потому что у тебя денег нет. Да и пьянь ты! – Я пошутковав. Мене нужна жинка проста, як кортопля в мундире, а ты хитра, подла баба, як «селедка под шубой»… К полудню Тарас Тарасович Хлещиборщ все выловленные гробы поменял на спиртное. На вытоптанном, безтравом бережке красовалась разномастная батарея бутылок и большой гроб, прислоненный к толстому стволу многолетней ветлы. Одну домовину старик оставил себе. Он примерял на себя, ложась в них, несколько «костюмов». Этот оказался самым подходящим и по длине и по ширине… Несколько дней спустя в «Окопной правде» в разделе «ЧП» появилась заметка Везувия Отрыжкина «Гробы». «На сугробовской мебельной фабрике произошло ЧП. В начале рабочего дня мастер цеха «Ритуальные услуги» обнаружил на складе отсутствие большой партии готовых гробов (более сотни). Вызвали милицию. При осмотре помещения для сторожа, обнаружили в нем поломанную, разбросанную мебель, множество пустых бутылок из-под спиртного и обильные россыпи окурков на полу. Сторожа Василия Лаптева на рабочем месте и на территории фабрики тоже, как и гробов, не обнаружили. Следствие стало строить, отрабатывать множество версий. Все оказалось проще пареной репы. Мертвецки пьяного сторожа В.Л. выловили под большим мостом. Он плыл по реке Сугробке в одном из гробов. Пострадавший, он же и подследственный, дал следующие показания: К Василию Лаптеву ночью пришли на работу друзья-собутыльники. Выпив большую партию алкоголя, добавив к ней еще несколько литров мебельного лака, веселая компания стала пускать деревянные изделия цеха «Ритуальные услуги», словно кораблики, по реке Сугробке. Сторож, хоть и был пьян, стал бурно возмущаться. За это собутыльники заколотили его в гроб и тоже пустили по воде… Специальная комиссия подсчитывает ущерб, нанесенный мебельной фабрике. Виновные, в количестве девять человек, выявлены и ответят перед российским законом сполна…» … А Россия-матушка, вымирая, продолжала по черному пить «горькую»… Ее сыновья гибли на Кавказе – началась первая чеченская компания… Маньяк Б.О. (30) Немного времени спустя в сугробовской газете «Окопная правда», в разделе «Криминальная хроника» появилась статья Везувия Отрыжкина «Колченогий маньяк». «За последних пол года в городе было зарегистрировано несколько изнасилований со смертельным исходом. Насильник выбирал, как правило, многодетных матерей-одиночек. Не брезговал, также, ветхими, болезненными стариками и старушками. Насиловал он своих жертв в циничных извращенных формах. На месте преступления оставлял записки или надписи на стенах: «С приветом, Б.О.!» Одна из его жертв чудом выжила. Вот какой она дала портрет преступника: маленький, лысый, колченогий старичок с громким голосом и огромной физической силой. Вся грудь Б.О. была увешана странными, ранее не виданными ни то медалями, ни то орденами. Милиция усиленно разыскивает, но пока безуспешно, колченогого маньяка-насильника. Сугробцы! Особенно многодетные матери-одиночки и старики – будьте бдительны! Маньяк Б.О. бродит по городу и его окрестностям – ищет новые жертвы»… Братья (31) Минуло время. Страну поразил сильнейший экономический кризис. Он прокатился эхом по остальным «независимым» государствам бывшей Великой Империи. Разорялись коммерсанты разных уровней, нищал простой народ… Братьям Ветровым шел двадцать пятый год. Понедельник Иванович, начав с «челночного» бизнеса, стал владельцем фирмы «Остров». Ветров выкупил обанкротившуюся мебельную фабрику. Закупил новейшее оборудование и производил добротную мебель, множество разных столярных изделий: от дорогих, добротных дверей с элементами резьбы до штапиков и швабр. Благо Россия всегда была богата лесом. Он жил отдельно от матери в центре Сугробска, в добротной четырехкомнатной квартире. Женится не торопился. В ведении домашнего хозяйства ему помогала домработница – крепкая, трудолюбивая сорокалетняя женщина из села Запечье. Ветров первый остепенился. Стал сдержаннее в эмоциях, мудрее. Вторник Иванович уже несколько лет был семейным человеком. Марья, в девичестве Перинова, родила третьего ребенка: вылитый Вторник – маленькая треугольная головка и большая пупушка. Они жили на другом, обрывистом берегу реки Сугробки. Вторник из окон своего дома, в хорошую погоду, видел «родовое гнездо Ветровых». Медведица тоже, занимаясь на кухне варением, жареньем еды, поглядывала на дом второго сына. Ветров второй держал большое хозяйство: коровы, козы, свиньи, многочисленная стая домашней птицы… имел несколько земельных участков. Среда Иванович – умный, дерзкий, непредсказуемый – на сугробском сходняке бандитов был избран смотрящим города. У Среды, при появлении на свет, слева на груди имела место татуировка: дата рождения и дата смерти. Он несколько раз испытывал судьбу: его взрывали в машине, кололи финкой, в него стреляли, жестоко избивали, пытались утопить в проруби… ему все нипочем, все трын-трава. Видно Фатум берег его, ждал срока, даты смерти заведомо предопределенной при рождении. Ветров третий женился на Паночкиной. Жили они в центре, недалеко от Понедельника в большом, дорогом особняке. Пятница Иванович, будучи милиционером, попал на первую чеченскую войну, где его жестоко контузило – стал инвалидом. Вернувшись с Кавказа, он сильно запил. Зимою, пьяный в стельку, он воткнулся головой в высокий сугроб снега и так простоял несколько часов. Кавказ, водка, сугроб – Пятница стал несколько странноватым. Поэтесса Нефертити родила от него мальчика, но замуж за Ветрова пятого не пошла. Ляля тоже стала матерью. Наблюдательные приметили, что ее девочка тоже очень похожа на Пятницу. Хорошенькие, интересные, молоденькие женщины ходили в матерях-одиночках. Местные жители говорят о Сугробске: «Город избалованных мужчин и невостребованных невест». И, в самом деле, здесь стало напряженно с женихами. Одни мужчины воюют, другие – сидят в тюрьмах, третьи – пьют и колятся, четвертые – в больших городах на заработках… Пятый Ветров жил с матерью Любовью Ивановной. Нигде постоянно не работал, попивал «горькую» и выкидывал всяческие «кренделя», как его покойный дед Иван с гвоздем-антенной в голове. Суббота Иванович после службы в армии поступил в губернское музыкальное училище на класс гитары. Закончив его, преподавал в сугробской музыкальной школе, подрабатывал на всяческих торжествах. Тоже жил с матерью. На ее вопрос: «Когда же ты, сынок, женишься? Одному же плохо». Молча уходил в свою комнату. Там, тихо перебирая струнами, наигрывал на гитаре «тоску и одиночество». Воскресенье Иванович недалеко от родительского дома, на пустыре построил небольшой, странной архитектуры домик. Сам обрабатывал огород и сад, держал десяток кур. Служил сторожем в одной частной фирме. За символическое вознаграждение помогал островным старичкам: кому крышу дома подлатает, кому забор поправит… Много времени проводил на речке Сугробке: рыбачил, купался, просто сидел часами на берегу, глядя на бегущую воду. Вел странный образ жизни: днем бывало спал, ночью бодрствовал, друзей не имел, подруги тоже. Сон (32) Воскресенье проснулся на исходе ночи, перед блеклой, зимней зарей. В домике с «окном в небо» (маленький дом с одним окном в потолке) было прохладно – остыла печь. Укрывшись ватным одеялом по самые глаза, Ветров глядел в окно на холодное ночное небо и думал об увиденном сне. Это было приятное, щемяще-радостное видение. Будто он, Воскресенье, совсем мальчишка, в выходной от учебы день, пришел с улицы весь в снегу. Он катался на коньках по льду речки Сугробки, играл в снежки и строил снежную крепость с братьями. Подтаявший, местами превратившийся в лед, снег, был везде, во всех складках одежды и даже в трусах – теплая и скользкая льдинка. Мама переодела мальчика в сухое и теплое белье, как и остальных братьев. Всех накормила, напоила горячим чаем и уложила под большое, пуховое лоскутное одеяло – праздничное, яркое, похожее на детство. Этот сон Воскресенью снился уже несколько раз. Это была, пожалуй, самая светлая и чистая картинка за последние годы. «Лоскутное одеяло?! Россия – тоже большое лоскутное одеяло. Разные: большие и малые народы, их культуры, языки, обычаи, веры… Главное его, одеяло, не порвать, если не дай бог каждый начнет тянуть на себя» – думал Ветров седьмой, разжигая печь березовыми щепками. Стопка дров покоилась рядом. 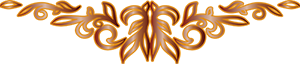 |
|
Категория: Проза › МВ | Просмотров: 876 | Дата: 20.12.2017 | |
| Всего комментариев: 0 | |

