
Зеленый конь на белом снегу. Часть-1 |

Зеленый конь на белом снегу (почти сказочная история для совсем больших) АННОТАЦИЯ к истории «Зеленый конь на белом снегу». Главные герои истории: Любовь Ивановна Ветрова и её семеро сыновей (отец – Ветер). Первый сын – Понедельник, второй – Вторник… седьмой – Воскресенье. Действие происходит в маленьком провинциальном городке Сугробске. Время: начиная с советских лет (70-е) и заканчивая первыми годами 21 века. В детстве семь братьев спали под большим лоскутным одеялом. Одеяло – символ огромной, разноликой, пестрой страны. Ветровы все разные, непохожие, хоть и от одной матери. Как они искали себя, своих суженых, своё место в жизни - об этом повесть. Повесть с обильными вкраплениями юмора, сатиры, гротеска, абсурда, мистики, сказки, романтики, философии… В истории есть толстые намёки на интимные сцены, имеют место крепенькие словечки, но всё, на мой взгляд, в пределах человеческой нормы, природы … (18+). С*****ской земле - земле дедов Ветер (1) Много Ветровых в России От ВОДЯРЫ горькой СИНИХ. Много странных, одержимых… Богом проклятых, любимых… – Ветер! Брат, я тоже Ветров! Мерил ТЫЩИ километров На железной птице белой. За пустячным, вроде, делом В путь отправился далекий. За красивым и высоким К морю стылому приехал. Ветер-ветер! Зря я бегал! От себя, судьбы не скрыться: Можно плакать, можно злиться – Те же рожи, те же лица, Удавиться? Утопиться? Можно было бы напиться – На мгновение забыться… Приходила ДАМА В БЕЛОМ – Песни сладкие мне пела. Но Душа терпела тело – Рабски: тихо и несмело. Время шло, ползло, летело. Солнце жгло и жгли метели… Ветер! Брат, я тоже Ветров! От черты последней в метре Веровать желал я в Бога, К МИЛОЙ все искал дорогу… Вот и Осень, брат мой Ветер. Взор твой ясен, взор твой весел. Вновь в плаще твоем наградой Ярко заблистает злато. Злато Осени туманной Вспыхнет пламенем прощальным. А потом твоя подруга – Белая игрунья – Вьюга Плащ усыпет пухом, пухом… Будешь, брат, ты белым духом… Веришь, Ветер! Веришь, вольный! Сердцу больно! Больно-больно! Хоть Душа моя устала, Все хотел начать сначала: Чистый лист, перо златое, Все изящное, литое… Но, увы, пока лишь кляксы. Все черно – подобно ваксе. Я поймал себя на мысли, Что давно устал от жизни. Что Душе хрустальной, звонкой Не ужиться с телом долго – С ним обугленным, свинцовым… Может Тело станет вдовым?.. Ты смеешься, Ветер, вижу, Рвешь одежду, водкой дышишь… Слышу шепчешь: «Быть им вместе. Может год, а может двести… Напиши ты, братец, сказку О знакомых и соседях… Не жалей холстов и краски Расскажи о счастье, бедах…». Предание (2) При царе батюшке, во времена первой великой войны, по России-матушке гастролировал интернациональный цирк клоунов. В день красного переворота цирк развлекал жителей маленького, уютного, хлебосольного уездного городка Сугробска. К беде или счастью – неделю с небес валил тяжелый густой, розовый снег. Сугробы намело по пояс. Выехать клоунам из городка стало невозможным. Они – веселые ребята – не печалились, ибо в Сугробске жило немало девиц и молодых вдовушек. Первая великая война съела их женихов и мужей, а тут еще началась братоубийственная резня – похожая на бред, на дурной сон, на кошмар. Словно над головой чернь неба и пронзительно яркие ледяные звезды, внизу бескрайная холодная равнина, в центре которой огромный, темный от сажи котел. Под ним полыхают ни поленья, ни бревна, а деревни и города. Адов жар, угар, дым… Не люди, а подобие их – призраки – красные, черные, белые… с пьяными воплями, матерщиной, стрельбою и звериными оскалами метают в котел кто свою честь, кто золотые червонцы, один – локон любимой, другой – нательный крест, третий – петлю с обмылком.. горсть патронов, книги, младенцев, веру, Родину… Кто это варево будет расхлебывать? Кто выживет?! А если выживет, останется ли он прежним? Ни станет ли зверочеловеком?! Так и остались в Сугробске жить, смешить, пить, горевать, любить, плодить детей, стариться и умирать около тридцати клоунов – разных национальностей и религий, оттенков кожи и разрезов глаз… Объединяла их всех здоровая придурковатость, буйная фантазия, голый оптимизм, отсутствие комплексов… и много-много других достоинств и добродетелей. Сугробск (3) Автор забежит вперед и даст картину города Сугробска в начале третьего тысячелетия. Ранним, бледным утром в теплую пору, когда большинство сугробцев спит, в центре городка можно увидеть вальяжно шествующих коров. Они похожи, баз пафоса, на королев, их хозяева – на пажей. Коровы идут на пастбище, словно на веселый пикник. Проходя у большой, серой коробки здания мэрии, они шлют кисточками хвостов воздушные поцелуи бронзовому идолу, в честь которого названа центральная, главная улицу Сугробска. В этот же призрачный час, пугая робкую тишину метлами, совками и тачками , трудятся в морковного тона жилетах созерцатели восходящего солнца – дворники. К полудню центр Сугробска становится оживленнее. Ибо здесь и базарок, и христианский собор, банк и баня, сеть магазинов… Можно увидеть возле пушки времен второй Великой войны группку запеченских женщин, торгующих домашним молоком. Оно разлито, в основном, в полуторалитровые пластмассовые баллоны – ряды белых «снарядов». По разбитым, колдобистым мостовым – в городе заасфальтированы три-четыре улицы, остальные – «черт ногу сломает» порой, проносятся дорогие, яркие иномарки. В них барственно сидят сытые и важные дядьки – это «отцы» города Сугробска. Вечерами, особенно в выходные дни и праздники, в немногочисленных ресторанах и барах городка гремит музыка, пьют «горькую», пляшут до упада – воздух в заведениях густ и тяжел от угара и похоти. Не обходится без мордобоя, поножовщины и даже стрельбы. Днем питейные заведения с фасада похожи на конюшни. Внутри их пахнет плохо вымытыми полами и несвежей, прокисшей пищей. В центре, в одном из старейших «культурных» питейных заведений не курят, сидят в головных уборах, пьют кофе и другие напитки из граненых стаканов, но есть маленькое «но». В заведение нет туалета. Посетители бегают по нужде на пустырь за здание. Иногда можно увидеть следующую картину: какой-нибудь красномордый дядька с сигаретой в зубах, еле-еле держась на ногах, стоит на высоком крыльце и матерно ругается. Ему не удается расстегнуть ни то ремень, ни то ширинку. Наконец вытащив на свет нечто и показывая его прохожим, он со сладким вздохом облегчения опорожняется. На его лоснящемся лице, а может морде или рыле жирно написано «жись прекрасна!!!» От центра городка через речку Сугробку перекинут железобетонный мост в большое село Запечье. Сугробка у Плешивой горы раздваивается и бежит в два русла: мать Сугробка и ее дочь Нехайка – больше напоминающая полноводный ручей. Берега Нехайки еще недавно были чистыми – тихий, заманчивый уголок. Здесь пасли коз, собирали лечебные, заветные травы, встречались влюбленные, в речушке купались малые детишки. Сейчас все ее берега завалены хламом, мусором, битым стеклом. Достается теперь и когда-то кристально чистой, ухоженной матери Сугробке. Под большим мостом «мать» с «дочкой», обнимаясь, снова сливаются в одну реку. Своим разъединением-соединением «родственницы» и образуют небольшой вытянутый островок с единственной улицей Островной. Об острове и его жителях автор и поведет свою повесть, вспомнит, конечно, и Сугробск. Медведица (4) Любовь Ветрова – дочь пастуха Ивана. В 197…году стала пенсионеркой. Она ходила в старых девах. Сильная и статная - выше самого рослого мужчины на острове. Молчаливая и нелюдимая. Девки, бабы, старухи улицы Островной ее сторонились, боялись. Звали за глаза «Молотом», «Медведицей». Мужики рядом с ней комплексовали. Когда Любовь Ивановна медленно шла по улице, старушки-сплетницы на бревнышках умолкали – прикусывали длинные языки; детишки, с визгом и писком, разбегались в стороны, прятались; а самые злые псы поджимали хвосты… Родители пугали ею своих непослушных чад: «… Придет Медведица, посадит в большой мешок и унесет на Плешивую гору бабе Яге и косматому лешему…» Любовь Ветрова почти всю жизнь, начиная со второй Великой войны, проработала кузнецом. Вышла на пенсию, но сил осталось с избытком. Чтобы выбросить излишки вулканической энергии, унять мощную, жадную, обделенную мужской лаской плоть, она каждую ночь прогуливалась до Плешивой горы, обходила ее вокруг. Плешиха находилась недалеко, в километре от дома Ветровой. Гора напоминала собою покатый медный шлем на буйной, курчавой – ее окружал дубовый лес – голове воина-варвара. … Давно, когда Любочке исполнилось двенадцать лет, ей начал сниться медвежонок. Он тихо забирался на печь к девочке и до утра ласкал ее своими тяжелыми, мягкими лапами. Росла Любочка, рос и медвежонок. С годами герой сновидений все меньше и меньше напоминал медвежонка. Скорее это было существо, похожее на чудище из сказки «Аленький цветочек». В ту давнюю пору девчонкам ее возраста снились ловкие и веселые соседские мальчишки, герои братоубийственной войны… Любиной соседке Клавке приходил в сладких ночных грезах – бородатый, шибко умный и грамотный мужчина, говорящий о любви по ненашенски. Бородачом оказался Карл Маркс. Подружки-девчонки рассказывали свои сны. Любочка же- тяжело молчала. Она о своей тайне не поведала даже матери – тихой и ласковой женщине. Может, просто, не успела? Та рано умерла. Воспитывал единственную дочь отец – Иван Ветров. Кто знает, может, Любовь Ветрова надеялась в лесу у Плешивой горы найти цветок? Аленький цветочек. Все эти невинные прогулки продолжались до одной Новогодней ночи. Ветровы (5) Отец Любы – Иван Ветров – был большим любителем самопляса (самогона) и краснощеких бабенок с толстыми ляжками и веселым нравом, слыл скандалистом…, но, удивительно, все его недостатки, порой, казались достоинствами. Ему все списывалось, потому что самые тяжкие его грехи были подобны детской шалости, ребячеству. Легкий, светлый, теплый, словно майский ветерок. Естественный и простой, как зеленый, пупырчатый огурчик на грядке, пригретый солнцем и умытый дождями или, извиняюсь, как навозная куча, в которой живут мыши, всяческие букашки и роются куры. Кому-то по сердцу пенье соловья, кого-то волнует утробное любовное кваканье лягушек на речке или пруду. В Иване Ветрове природно звучало и то, и другое. Иван относился к пятому поколению Ветровых, живущих в Сугробске, точнее на его окраине. Начинаю с Василия – залетного молодца, осевшего в сугробском краю, всех Ветровых злой рок жестоко гнул и ломал: тюрьма или сума, горькое пьянство или злая жена, ранняя насильственная смерть или тяжелый недуг, превращавший жизнь в инквизиторскую пытку… Говаривали, что Василий Ветров соблазнил единственную дочь самой лютой сугробской колдуньи, а женился на другой. Ведьма прокляла род Ветровых до седьмого колена. Проклятье не обошло и Ивана Ветрова – отца Любы. Он в отроческом возрасте упал с курятника на кусок доски с ржавым гвоздем, который так и остался в голове на всю жизнь. Отполированную шляпку гвоздя всегда можно было нащупать меж волос на темечке Ивана. В праздники, народные гулянья, ярмарочные дни Иван, не потратив ни копейки, всегда был сыт и пьян. Он показывал зевакам фокусы-покусы с небольшим магнитом. Пастух становился буквой «Г» – магнит держался на голове, на землю не падал. Давал любопытным потрогать шляпку гвоздя, плел несусветную чушь. Одна из его сказок: гвоздь – это антенна, при помощи которой он получает сигналы и информацию от всеобщего Некто. Всю свою жизнь Ветров гусарил, чудачил… До странной Новогодней ночи, с Иваном, разменявшим девятый десяток лет, случился очередной «чик-чирик». Он безумно, по самую шляпку гвоздя в маковке, влюбился в соседскую девчонку-школьницу. Она была бела, свежа, имела пышные формы, слыла беспредельно глупой и неразборчивой в связях. Старичок же месяца три, находясь в бредовом, сдвинутом состоянии, и днем и ночью, в огороде ли, магазине ли, за столом и в туалете… сочинял стихи и поэмы о любви. Только о любви! Ни березки, ни соловьи, ни лунный свет, ни синь небес… ничто его не трогало. Она! Только она! Она закрыла собою все. Даже солнце. Иван кое-что вынес из дома и продал, сдал все бутылки, отказывал, порой, себе в самоплясе и «беломоре» но выпустил самиздатом десять книжек стихов. Посвятил сборник, конечно, ЕЙ. – Дедушка, вы бы лучше себе штаны новые купили, чем эти стихи.., – с жалостью обронила работница конторы, где Ивану напечатали на машинке и скрепили в книжки стихи. С брезгливым интересом она прощально зыркнула на открытую ширинку ветхих брюк пастуха. ОНА так и не узнала о любви Ивана, о стихах. Ветров со всем тиражом поковылял к лучшему поэту Сугробска. Тот небрежно листал сборник. Вчитываясь, хмурился, кривил губы, выпучив глаза, продекламировал вслух: «Люблю тебя, любовь моя, любовию любвеобильной…» Утробно икнул и с плеча рубанул: Дерьмо! Все стихи Дауны! Сожги их! Правда, одну книженцию я оставлю у себя. Будет пособием «Какие не надо писать стихи»… – Э-э-эх! – Иван нервно поскреб маковку – гвоздь был на месте – и выскочил вон. Старый пастух-поэт, смахивая с покрасневших глаз пьяные слезы, сидел на вершине Плешивой горы. Вырывал страницы из книжек, складывал из них самолетики и пускал-пускал… по ветру свою любовь, свою боль, бессонные ночи, свою угасающую жизнь… Пускал самолетики и пил из горлышка теплую водку. Она лилась в него легко, без горловых спазмов, словно прохладная вода из чистого колодца. «Жизнь – горше водки!» – думал он. В далеке, по розовым от угасающего солнца облакам, проскакал длинногривый зеленый конь… Новогодняя ночь (6) Россия-матушка пьяно, угарно праздновала Новый год. Через какой-то десяток лет отправится в последний путь мохнатобровый вождь Великой Империи – страны «самых отвратительных громил и шарлатанов»…( С. Есенин ) Иван Ветров – отец Любы – выпил бутыль самопляса, закусил холодцом и, попыхивая «беломором», стал глядеть «Голубой огонек». К часу ночи он опрокинул в себя еще два гранчика самопляса и начал бойко спорить с телевизором, горячо доказывая «ящику», что он – Иван Ветров – человек с большой буквы. Его дочь оделась и тихо вышла. Путь ее лежал к Плешивой горе. Земля была покрыта бугристым льдом. Пьяный, буйный Ветер обжигал Любовь своим дыханием, бросал в лицо колючий снег, трепал, рвал одежду, словно желал раздеть женщину. Но силы были равными. Медведица медленно, но все же приближалась к горе или к горю?! – Эй, дай закурить?! Ветрова, направив фонарик, увидела перед собой плюгавого мужичка. Тот был в шапке-ушанке из неизвестного зверя, в драном тулупчике на распашку и в огромных валенках. Ни штанов, ни трусов, ни рубашки, ни свитера… Почти белые, как у вареной рыбы, глаза, красный, пористый носяра и светящееся синевой, корявое, худосочное тельце. – Мужик, дай закурить! А, я те налью, – незнакомец полностью распахнул полы тулупчика. К голому бедру была прижата ополовиненная трехлитровая банка с мутной жидкость. – Мужи-и-и!.. Медведица кулаком-молотом треснула плюгавого в узкий, низкий лобик. Он пискнул и осел. Банка не разбилась – ее падение смягчил небольшой сугробец. Люба подобрала ее, открыла и, в несколько больших глотков, опустошила. – Мужик? Мужик! Я мужи-и-ик! – заревела она диким зверем, глядя на луну. По ее лицу первый раз в жизни катились горячие, обильные слезы и падали на земь уже льдинками. Ветер неистовей стал рвать на ней одежду. Задыхаясь от бессилия, он завязывал узлами вековые деревья… Звезды срываясь, сыпались с небес, разбивались с рюмочным звоном. Луна плясала, строила мины. Спящую Любовь Ветрову на следующий день обнаружили рядом с Плешивой горой. Она покоилась на двухствольной раздвоенной березе. С одной стороны «рогатки» свисала верхняя часть тела, с другой – нижняя, словно мешок муки на велосипедной раме. Юбка у женщины была задрана сзади на голову… Я женщина (7) Стал расти у Медведицы живот. Любовь не знала, что с ней происходит: кружилась голова, поташнивало, тянуло на солененькое… Пожилая фельдшерица, живущая на острове, бегло глянув на Ветрову, поставила диагноз: «Ты, бабочка, кажется, того. Залетела. Проверься»… Через семь месяцев после Новогодней ночи, в знойный август Любу увезла скорая помощь. Рожая, она смеялась, плакала, счастливо кричала: «Я-я-я же-е-енщи-ина-а»! Она родила семерых мальчиков: первого в понедельник… седьмого – в воскресенье. Они были все разные, словно от разных отцов. Мальчик-Понедельник – с крупной яйцеподобной головой. Вторник – с маленькой деформированной, чуть ли ни треугольной, головой и большой не по возрасту «женилкой». Среда – пулей выскочил из Медведицы. На грудке карапуза слева, у сердца, имела место татуировка – дата рождения и дата смерти с точностью до дня. Четверг – очень долго не желал выходить в этот мир. Малюсенький, синенький, с пуповиной вокруг шейки. Почти нежилец. Кое-как спасли. Пятница – смуглый и косой. Лягался жеребенком. – Лягавым будет! – предсказала уборщица. Суббота – тихий и улыбчивый. Он не кричал, а пел… Воскресенье – беленький, словно снежок и небесноокий… Молчун. Быт Обломович и Шплетня (8) Любовь уже с месяц не спала: крики, вопли, пеленки, распашонки… кормление и стирка. Другая женщина – француженка, немка или англичанка – давно бы полезла от всего этого на стену, стала бы кусать и облаивать людей, впала бы в буйство или тихое, хилое умопомешательство, но только ни Медведица. Она похорошела. Губы ее растягивались в загадочной блаженной улыбке, глаза, хоть под ними и были тени недосыпа и усталости, сияли неземным светом при виде своих семерых карапузов. Перед зарей она забылась легким, зыбким, минутным сном. Топ-топ-том! Хи-хи-хи! Кхе-кхе-кхе! Топ-топ-топ! Хи-хи-хи!.. – Вы кто? – у кровати Ветровой стояли странные старичок со старухой. – Я, кхе-кхе, Быт Обломович! – генералом гаркнул старичок и шумно поскреб лысину. Видно, решив, что этого мало, он громко и браво топнул об пол деревянной ногой-протезом. Дюжины три медалей на его груди зазвенели шутовскими бубенцами. – А-а, я, хи-хи-хи, Шплетня! – кривобокая, беззубая старушенция слизнула длинным раздвоенным языком мутную каплю с кончика острого носа. На ее впалой, вислой груди тоже красовалось несколько ни то медалей, ни то орденов, ни то значков… Нечто крикливо-фальшиво-блестящее. – Как вы зашли в дом? Дверь закрыта на засов! – была удивлена мать семерых детей. – Мы в любой дом, кхе-кхе, войдем! – В любую щель шалешем беш мыла, – поддакнула Обломовичу его подружка. – Мы вездесущи! – браво продолжал Быт, – с нами все считаются. И бедняк, и богач, и король и шут… – Хи-хи-хи, – скривив большой лягушичий рот, залилась смехом Шплетня и снова лизнула себе нос. – У меня вот боевые награды, – входил в раж старичок, – «За победу над дружбой», «За победу над любовью», кхе-кхе, «За победу над талантом»… – он долго и нудно перечислял свои «победы», бил об пол деревянной ногой. – Я тоше, хи-хи-хи, не лыком шита, – вставила Шплетня, – орден «Ша клевету», хи-хи-хи, орден «Мухошлон». Шамый вашный! Я иш мухи шлона могу шделать. Вот! Хи-хи-хи. И ешо… – она стала скороговоркой, не к месту хихикая, перечислять свои заслуги. У Любови жутко разболелась от них голова. – Что вы хотите? – с досадой спросила она. – Тяжко тебе! Семь детей! Пенсия маленькая! Отец Иван – пьянь и рвань! Помощи от него никакой… Загнешься!!! – Люди интерешуютша от кого детишки? Может Дед Морош отеш, иль Ветер надул, а мош медведь-шатун? А-а-а? Хи-хи-хи! Медведица меньше уставала за неделю от изматывающего силы, мужского кузнечного труда, чем за час от этой назойливой парочки. – Надоели! – женщина взяла Быта Обломовича и Шплетню за шкирки и понесла к выходу. Старичок больно, до синяков, лягался деревянной ногой, зло кричал: – Загнешься! Кхе-кхе-кхе! Горя хлебнешь за семерых! За всех сыновей!.. Старуха гадко визжала: «Дети твои отморошки. Вше говорят, шо они отморошки и ты отморошеная!.. Медведице стало в первый раз больно после рождения сыновей. «Какая людям разница от кого мои дети, – мысленно разговаривала она сама с собою, – пусть за собой смотрят. С кем дружат, кого любят, с кем детей заводят…» Год (9) Малышам Любови Ивановны Ветровой исполнился год. Понедельник уже бойко, начальственно говорил. Строил простые фразы из двух, трех, а то и четырех слов. Но любимую игрушку ни в одной из ручек, сколько ни пытался, удержать не мог. Вторник все время мычал теленком. Будучи сытым любил полакомиться своими и братьеными какашками. Находил их всегда и везде. Проявлял интерес к своей «женилке». Среда – резвый. Из всех детских игрушек предпочитал пистолет – с ним не расставался. Погремушки метал на пол, словно гранаты. Четверг – самый тихий, самый вялый и болезненный. Намучилась с ним Медведица. Пятница неистово лягал всех братьев, сгребал к себе все игрушки, зло кося глазками. Суббота – первое свое слово «мама», улыбаясь, пел на разные лады. Воскресенье – самый ласковый. Когда Любовь его кормила грудью, он ни разу ее не укусил, не сделал матери больно. Лоскутное одеяло (10) Прошло несколько лет. Братьям Ветровым всем вместе на одном диване стало тесно спать. Их мать легко, словно стул иль табурет, внесла в детскую свой. На двух сдвинутых диванах мальчишки чувствовали себя вольготнее. Медведице, хоть она никого и ни о чем не просила, помогала нянчиться с детьми соседка Клавдия. Женщины знали друг друга с детства, почти ровесницы. Но у них было мало общего. Любовь и Клавдию объединяли, роднили лишь дети. В молодости Клавдия имела скандальный успех у мужчин. До сорока лет успела восемь раз выйти замуж и развестись, сделать девятнадцать абортов. Перебирала мужиками в поисках единственного. Один ее муж пил, другой – гулял, третий – дрался… «Мущина должен быть для меня всем! – томно вздохнув, говаривала она. – Он и отец, и сын, и брат, и друг, и любовник… Он солнце, что светит и греет, и земля, что кормит, и на которую опираешься…» Встретив Его, Единственного – дядю Степу, Клавдия решила родить «плод их любви», но злой Рок детей им не дал. Ни шибко вумные профессора с козлиными бородками в золотых очочках, ни скособоченные востроглазые старушки-знахари с пучками трав и молитвами ни чем помочь не смогли. Всю нерастраченную и невостребованную, накопленную и настоянную годами материнскую любовь и ласку Клавдия отдавала семерым Ветровым. Она стала им второй мамой, стала крестной. Это крестная предложила смастерить большое, круглое, празднично-карнавальное одеяло из цветных лоскутов. Женщины неделю – семь дней с утренней робкой зари до позднего хмурого вечера сшивали лоскутья, разрезая старые, траченные молью или давно вышедшие из моды платья, сарафаны, юбки, рубашки, штаны… Пошли в ход и два ярких, с золотистыми и серебристыми блестками, галстука дяди Степы. Подрастающие братья Ветровы были в восторге от одеяла-праздника, пестрящего всеми цветами радуги и их немыслимыми оттенками. Семером они засыпали на двух диванах, укрытые одним большим «Солнышком». Этакими семью лучиками высовывались из под одеяла их вихрастые головки. По-первости братья долго не засыпали. Их ножки соприкасались в центре. Они друг другу пальцами щекотали ступни и заливались чистым, звонким, невинным смехом… Детство! Медведица грустно улыбалась, прислушиваясь к шуму в детской. «Боженька, если ты есть, дай им здоровья, любви и радости. Поменьше боли и горя».. – шептала мать каждый раз перед сном. Истории под лоскутным одеялом (11) Братьям Ветровым шел двенадцатый год. Их мать давно заметила, что сыновьям всем вместе уже тесно спать на двух диванах. – На днях, сыночки, начну вас расселять. – Не-е-а! Ма-а-а! – раздалось несколько голосов. – Теснотища же, а-а? Знаю вам веселее, интереснее, но все же! – Не-е-еа! – М-а-а, давай уже разъезд сделаем после Нового года, – дельно предложил яйцеголовый Понедельник. – Да-а-а! М-а-а! После новогодней ночи, – поддержали его остальные. – Ладно. Уговорили. Пришел Новый год. Любовь Ивановна купила всем своим детишкам скромные одинаковые подарочки, чтоб никого из них не выделять, а значит, никого и не обижать. Но зато елка – большая, пушистая и пахучая. И конечно зеленая-презеленая. Дед Иван на рынке купил. Праздничный стол не украшали ананасы с сервелатом, не было икры черной и белого шоколада, но за ним, за скромным столом работяг было светло, тепло, непринужденно и уютно, много смеха, шуток, радости. После полуночи братья улеглись спать. Это последняя их ночь под одним одеялом-солнышком. Видно, общее застольное веселье, хороводы с песнями вокруг елки, «африканские» пляски под балалайку деда Ивана раззадорили их юные сердца, разгорячили кровь и сон к мальчишкам не шел. Они, тихо посапывая, лежали в постели со своими подарками-кулечками. В них дешевая карамель и печенье, плитки соевого «шоколада». Тишину нарушали аппетитное чавканье, шелест фантиков, сахарные вздохи. – Что-то не спится, – обронил Понедельник.– Давайте истории забавные рассказывать. Только, чур, не повторяться. Каждый что-нибудь новенькое, пусть даже выдуманное. Типа сказки или фантастики. Согласны? – Начинай, Понедельник! – поддержал его Среда. – Твоя история первая. – Слушайте. В Сугробск приехал молодой врач по животным. Ветеран. Нет, Ветеринар, – начал свою байку Ветров первый. – С врачом люди, особенно колхозники, вели себя важно. «Что, мол, он – зеленый сопляк может знать в наших коровах Феях и бычках Буянах? Сами. Мол, с усами!» Но он был грамотный ветеринар. Принимали же его помощь, словно делали ему одолжение, платили гроши, а то и вообще за «спасибо». Как-то раз он принял тяжелый отёл у молодой коровы. Всё обошлось. Всё хорошо. Очень богатый, но болезненно-жадный хозяин накрыл стол. Ветеран. Тьфу-у! Ветеринар глянул в свою тарелку, а в ней гора костей. Мяса на них почти нет, словно после собаки дали. Ветеринар вздохнул, усмехнулся, помолчал-помолчал, да-а-а, как залает с подвыванием. Собаки на улице услышали и тоже стали выть и гавкать на разные голоса. Старушка – бабка жадного хозяина сидела напротив врача. Она с перепугу кувыркнулась назад с табуретки. У нее выскочила изо рта вставная челюсть. Стоя на дрожащих коленях и выпучив глаза в угол на икону, она стала бить поклоны и, шепелявя, молиться, причитать: «Поше паси! Поше паси! Поше паси»! Братья Ветровы засмеялись. Среда стрельнул из игрушечного пистолета – Бах-а! В воздухе, еле-еле уловимо запахло порохом сгоревшей пистоны. Вторник пукнул. Новая волна смеха. – Тихо, Это еще не все, – продолжал Ветров первый, – после этого случая ветерана. – Ветеринара, – поправил брата Суббота. – Да-а, ветеринара начали побаиваться, а значит и уважать. Через несколько лет он стал главным ветеринаром Сугробска. Теперь он заслуженный ветеран труда. – Ветеринар?! – Нет. Ветеринар заслуженный ветеран труда. Во-о-о! – подытожил рассказчик и почесал правой рукой свою большую, умную голову. Мать мальчишек – Любовь заметила, что Понедельник рассуждает и говорит во-взрослому. В остальном же – редкий неумеха. Почерк – страсть какой неуклюжий. Никто не мог разобрать каракули Понедельника. Впрочем, он и сам, порой, мучился, расшифровывая написанное. Спасала хорошая память. Рисовал он хуже всех братьев. Смастерить и подавно, ничего путного не мог. Но говорил, рассуждал… – Депутатом будет! – не раз повторяла крестная мать Клавдия. – Вторник, твоя очередь! – раздалось в темноте несколько голосов. Послышалось характерное для Ветрова второго мычание: – М-м-м, щас! Он вылез из под одеяла, зажег палочку бенгальской свечи. Свободной рукой спустил трусики до колен и, освещая свой пах, победно заявил: – М-м-м. У меня самая большая !.. Вот! М-м-м… Смех перерос в визг. – Самая большая пупушка! – уточнил Среда. – Ну ты, Вторник, убил наповал. Всех победил! – Понедельник почесал себе висок. – Далеко пойдешь. Со временем у тебя пупушка вырастит и станет больше твоей маленькой треугольной головы… Это вся история? – М-м-м, да! – ответил обладатель «сокровища». – Сре-да! Сре-да! Сре-да! – скандировали братья. Тут отворилась дверь детской. Темноту комнаты пополам разрезала яркая полоска света. – Сынули! Пора спать! – сказала ласково Медведица. – М-а-а, у нас последняя ночь под «солнышком». Новогодняя ночь. Мы еще немного, еще чуть-чуть не поспим. Хорошо! – ответил за всех Понедельник. – Ладно. Раз последняя ночь, то можно. Только потише. Дедушка лег спать, дверь тихо закрылась. Комната снова наполнилась темнотой и тайной. – Чтобы такое рассказать? – вслух думал Ветров третий, – а-а-а, знаю! Слушайте! Дон Педро не торопясь ехал на танке и курил толстую, длинную и ароматную сигару. Хоть Дон Педро и был самый крутой перец в Рио-де-Сугробске и имел большую кучу врагов, личной охраны не признавал. Он был, как всегда, в пуленепробиваемом шлеме и легком, словно пух, бронежилете. В кармане лежала любимая рогатка с прицелом, стреляющая стальными шариками. Дон Педро – не жлоб – джентльмен. Он остановил мощный танк в ста шагах от своей виллы и бросил окурок в мусорный бак. В мусоре, тем временем, рылась красивая и стройная девушка. На голове у нее – светлая зачуханная бейсболка. Незнакомка бросила жгучий, косой взгляд на танк. «Где-то я видел эти очи-омуты. Мне от них мучительно больно и сладко, – терзал себя дон Педро. – Она косая на один глаз. В этом есть большая тайна. Кто же она?» – герой стукнул себя пудовым кулаком по шлему, но это не помогло. Он, как ни силился, не мог вспомнить. Тут послышалась отвратительная ругань, русский мат. К мусорному баку приближались трое: ни то бомжей, ни то разбойников. Один из них, видно главарь, с черной повязкой на глазу, стал отгонять костылем от бака прекрасную незнакомку. – Шоб я тоби здеся бильше не багив, – брызгал слюной одноглазый. «Какой, однако, хам!» – подумал дон Педро и смело вылез из стальной машины. – Эй, вы, уважаемый, можно с сеньоритой полегче, повежлевее, – обратился крутой перец к хромому, и тут же получил звездатый удар костылем по маковке. Спас крепкий шлем. – Сами, сэры, виноваты, – тихо обронил наш герой и вытащил из глубокого кармана клёвую рогатку. Наглая, беспардонная троица, охая и ахая от ударов стальных шариков, разбежалась в разные стороны. Но тут, о-го-го-го! Приключилась другая беда! – Во пургу, Среда, гонит! – вставил Понедельник. Братья сдержанно засмеялись. – Не перебивайте! Бах-х! – Ветров третий пульнул из пластмассового пистолета. – На вопли разбойников, – продолжал, вошедший во вкус, рассказчик, – прибежала стая диких, бездомных собак. Они, рыча, приближались к дону Педро и девушке. Супермен высмотрел среди мохнатых, клыкастых псов вожака. Встал на четвереньки и, изловчившись, откусил вожаку стаи хвост. Тот шакалом заскулил и понесся прочь. Все собачье шобло за ним. Незнакомка благодарно поцеловала дона Педро в чисто выбритую, пахнущую дорогим французским одеколоном щеку и потупила стыдливо глаза. Он галантно, пошаркав ногами, поцеловал ей чумазую ручку с грязными ногтями. Потом помог взвалить огромный мешок, полный бутылок, хлебных корок, костей, картонных коробок… на ее хрупкие девичьи плечики. – Вы кто? – Маша! Просто Мария! – Педро! Мария, хихикая и пританцовывая, гремя мешком, стала удаляться. Дон Педро, выбивая дробь кулаком по шлему, запел тонким, томным голоском: Этот взгляд косой Свел меня с ума! Этот взгляд косой Для меня тюрьма! Братья Ветровы ритмично захлопали в ладоши. Суббота подыгрывал на губной гармошке. – Мусор тот кругом. Средь него цветок! Мусор тут кругом. Счастья ты кусок! Маша остановилась и хриплым пропито-прокуренным басом ответила: Ранил сердце мне Джентльменством ты. Ранил сердце мне В нем весны цветы Буду помнить я До скончанья дней Не забуду я – Будет жизнь светлей… Она скрылась с мешком за углом. Сердце дона Педро мучительно сжалось, а потом разжалось от любви к незнакомке. – Ма-а-ри-и-я-я! – раненым львом зарычал он и полез в танк… Бах! Бах! Бах! – раздалось три хлопка игрушечного пистолета. – Конец! Кто слушал огурец! – браво выкрикнул Среда. – Ты это, брат, сам родил или где-то увидел, вычитал? – поинтересовался Понедельник. – А-а, что? – Фантазия, однако, не по тебе. – Успокойся, яйцеголовый, не мучайся. Я это вычитал в книжке крестной тети Клавы. Мне этот кусок понравился и я его почти наизусть знаю. Ну-у, от себя малость добавил, присочинил… – Убойная история! – восхитился Пятница. – Четверг, ты нас порадуешь историей, а-а-а? – на правах председателя «лежания под круглым одеялом», поинтересовался яйцеголовый. – Можно! – тихо ответил, всегда бледный, большеглазый Ветров четвертый. – Что? Не слышно? – переспросил Понедельник. – Говори громче! – потребовали братья. – Слушайте, – начал новый рассказчик. – Жил-был один мальчик. Он много, слишком много думал. Ему еще не исполнилось десяти лет, а он уже поймал, словно редкую птицу за хвост, одну мысль. Эта мысль стала его разрушать. И он уже в десять лет чувствовал себя ветхим стариком… – Громче, Четверг, плохо слышно, – попросили братья. – Так вот. Мысль такая. Разум. Человеческий разум – это болезнь. Люди со своей болезнью – разумом нарушают равновесие в природе. Они когда-нибудь погубят все живое на Земле и себя, конечно… – Что еще! – с долей испуга спросил самоуверенный Понедельник. – Ад на Земле, а Рая нет! – твердо сказал Четверг. – Да? А еще! – Человеческая душа – это белый чистый лебедь в темном колодце человеческого тела. В нем, в колодце грязь, тлен, черви и скользкие бородавчатые жабы… – Достаточно, братишка! Достаточно! – стал отмахиваться руками Понедельник. – Мне жить не хочется после твоих слов. – Мне тоже, – вздохнув, обронил рассказчик. – Чур меня! – выкрикнул яйцеголовый. – Чур! Чур! Чур! – закричали хором братья. – Бах-х! – стрельнул из пистолета Среда. Около двух лет назад на сугробском базаре сыновей Медведицы увидела цыганка-калека. Окинув мальчиков быстрым, острым взглядом угольных глаз, она поблагодарила Любовь Ветрову за подаяние и сказала, кивнув в сторону Четверга. – Он очень умный. Такие долго не живут. Не задерживаются здесь… Дай Бог, чтоб я ошиблась… – Пятница, хватит лягаться! Конь в пальто! Твоя очередь. Твоя история. – У меня есть рецепт, – начал Ветров пятый. – Меня ему научил дядя Степа, муж крестной тети Клавы. – Ну-уи?! – подал голос один из слушателей. – Рецепт, как извести муравьев. Дядя Степа сам его придумал и испытал. – В чем же он? – с иронией спросил Понедельник. – После большой пьянки натощак пьется стакан тормозной жидкости или средства для мойки стекол и отрыгивается на муравейник. Через десять минут им всем копец! Дядя Степа хочет запатентовать свое изобретение… Среда, заливаясь смехом до икоты, упал с дивана. Братья, глядя на него, тоже ржали. – Ну, ты, Пятница, конь в пальто! – М-м-м. Ничего не понял! – влез в общий гвалт Вторник. – Еще один конь в пальто! Снова смех до визга. В дверь детской постучали. – Давайте потише, – предложил старший брат. – Суббота, ты еще не спишь? – Нет! – Ваш, сэр, рецепт! – Хорошо. Слушайте. Мне это рассказал наш дед Иван. Прошлым летом он косил сено далеко от нашего дома. Намного дальше Плешивой горы. Вставал рано, с солнцем. Ложился спать с его заходом. Жил в шалаше. Днём стояла жуткая жара. Вечером тоже было душно. Дед после косьбы не забыл выпить стаканчик самопляса. Развалился, отдыхая, в высокой траве. Раскинул в стороны руки и ноги. Вдыхал полной грудью, опьяняющий ароматом трав и цветов, воздух. Пели птицы, букашки и таракашки… Если коротко – полный кайф! – Как кучеряво говорит! – перебил Субботу Понедельник. – Тихо, яйцеголовый! Суббота дальше! – Также рассказывал дед. Я ему подражаю. Итак, лежал дед на лугу и радовался жизни. Вдруг – трах-тарарах! У деда екнуло сердце. «Гроза что ль?!» – мелькнуло у него в голове. Это же весь труд, все сено пропадет, если начнется дождь. Сопреет накошенное и станет непригодным, Небо же чистое-чистое. Только облако небольшое над Иваном. Пригляделся он к облаку, а оно словно большая голова. Глядит эта голова вниз, на деда, этаким брезгливо-оценивающим взглядом. В одном глазе у облака-головы кругленькое стеклышко. – Это монокль. Типа очков, – вставил начитанный Воскресенье. Говорит небесное чудо деду, а голос у него, словно гром во время грозы. – Не пора ли, старик, в последний путь собираться? Зажился тутова! Дед с перепугу схватил косу и стал на ней, пританцовывая, при помощи точильного камня, музыку играть. Частушки горланить. Играл, пел, плясал, пока ни свалился в траву в липком, жарком поту. Открыл глаза Иван, а голова-облако ему снисходительно улыбается. Прогрохотало: «Ладно на косе «Биттлз» наяриваешь! Поживи. Когда увидишь в своем саду зеленого коня на белой траве, когда упадут в траву черные яблоки и чуть погодя поднимутся в небо… Знать пора собираться. Знать финита ля комедия…» Дед слушал небесное чудо с закрытыми, до боли сжатыми, глазами. Его тело билось в судорогах, зуб на зуб не попадал. Потом раз и снова рай. Тихо, покойно, хорошо! Он долго не открывал глаз. Боялся. Когда же глянул на небо, была уже ночь. Небо чистое, глубокое, звезд тьма! Звездатая ночь! С минуту братья молчали. – На нашего деда это похоже, – нарушил тишину Понедельник. – Он же сказочник с антенной-гвоздем в маковке. – Бах-х! – стрельнул из пистолета Среда. – Ты на деда бочку не кати, яйцеголовый! Понял! – Понял. А то еще застрелишь. Воскресенье, твоя очередь и будем спать. – Я тоже дедову историю расскажу, – начал младший из братьев. – Согласны? – Мели! Не тяни! – зашумели Ветровы. – Когда дед Иван был молодым, он ухаживал за нашей покойной бабушкой. Жених и невеста. Пошли они как-то со своими друзьями и подружками в лес по грибы. Пошли всем колхозом. Дед с бабушкой улизнули от всех, чтоб побыть наедине. Шли, грибы собирали, ягодами сластились, о своей будущей жизни мечтали. Молодые, здоровые и красивые. Все впереди у них. Смеялись и радовались друг другу, Шли-шли и заблудились. Темнеть начало. Они «Ау! Ау! Ау!» В ответ только эхо. Присели они, уставшие на свалившееся дерево. Пригорюнились. Слышат рядом голос: – Счастье – брат горя! Откуда голос понять не могут. Оглянулись, пригляделись. Сидит на ветке птица диковинная, двухголовая. Одна ее половина, вместе с головой – белая, другая – черная. – Счастье вы не узнаете без… – напевно сказала белая голова и кивнула в сторону черной. – Без гор-ря! – каркнула старой, простуженной вороной черная голова. Каркнула так гадко, мерзко, словно в могилу приглашает. – И гор-ря не узнаете без, – гортанно добавила воронья голова и повернулась к белой, голубиной. – Без счастья! – ласково пропела та. – Если вам суждено выбраться из леса, – продолжала черно-белая птица в два голоса, – то выберетесь. Хлебнете в жизни всего! И меда, и дегтя! И счастья, и горя! Жених и невеста жутко испугались, схватились за руки и понеслись по ночному лесу напролом. К утру в порезах, ранах, в лохмотьях одежды, залитых кровью, они выбрались к Плешивой горе. Дедушка с бабушкой были голодные, их мучила жажда. Все болело, саднило. Они падали от усталости. Но они, говорил дед Иван, никогда не были так счастливы, как в то утро. Никогда… Были радости в жизни, но не такие пронзительные. Они, жених и невеста, тогда первый раз поцеловались… Братья притихли. – У деда, наверно, от самопляса все эти головы-облака и двухголовые птицы, – сделал вывод Понедельник. – Нет! – отрезал Среда. – Дед Иван говорит, что он пьет, чтоб быть, как и все остальные – клоуном. Говорит: «Когда я трезвый у меня горе от ума и фантазии». Вот! И еще добавляет: «Мне два понедельника осталось жить, потому я себе ни в чем не отказываю…» – Да-а. Ему уже сто лет без недели. Может два понедельника и осталось, – погрустнел старший брат. – А мне, Понедельнику, сколько понедельников осталось?! – Бах-х! Все вздрогнули. – Это уже сколько облако-голова решит! – браво сказал обладатель игрушечного пистолета. – Отбой, братва! Слышите первый петух запел?! Братья начали укладываться спать, но так они в эту ночь и не вздремнули. Последняя ночь под лоскутным одеялом-солнышком стала ночью историй. Первый март Марта (12) Пришла Масленица. Стало больше солнечных дней. Снега за зиму выпало с лихвой. От союза солнца и снега, пламени и воды – веяло девственной чистотой, ласковостью, окрыленностью. Дед Иван и семь братьев сидели за большим круглым столом и уминали блины. Медведица заранее напекла их с пол сотни и пригласила «своих мужиков». Первая партия блинов была для восьмерых Ветровых разминкой. Женщина пекла на четырех больших сковородах, все конфорки газовой плиты горели синим пламенем, кипело масло, шипели блины – большой жар, легкий угар. Медведица в этот момент напоминала сталевара у мартеновской печи. Лицо разгоряченное – красное и влажное от пота. Во взгляде сосредоточенность, в движениях – быстрота и выверенность. Наконец-то «мужики» сыты. Можно теперь и самой Любови блинами со сметаной полакомиться. Дед с внуками пил чай, сластя его медом. Маленькая форточка открыта настежь, чтоб воздух в кухне освежить, да и на улице сегодня тишь и благодать – солнце без мороза и ветра. – Бух-турурух! В форточке показалась морда кота Марта. Глазки у него мутные с сумасшедшинкой. В них большой вопрос: «Что со мною творится?» Вид у него – от усов и до кончика хвоста – чумной, зачуханный. Слюнявым ртом хватает воздух, словно задыхается… Марту нет еще года. Это его первая весна, первый март. Осенью он ещё был маленьким, худеньким, игривым полосатым чертенком. Любил ловить и есть мух. Думали, что это кошечка. Назвали Мартой. Но все когда-нибудь тайное, скрытое становится явным. Дед Иван одним вечером, от нечего делать, ловил у Марты блох и пришел к открытию, что это не Марта, а Март. В день защитника отечества кот еще оставался тихим и ласковым, опрятным и послушным. Серая его шубка была чистой и пушистой, глаза ясными и невинными. С него тогда можно было писать кошачьего ангела, если таковые существуют. А сейчас Март – тьфу! – Чо любовь с людями делает, эх?! – кивнув в сторону кота, жадно уминающего второй блин, изрек дед Иван и лукаво улыбнулся внукам. – Ни пропал бы он, как наш Бас! – с жалостью обронила Любовь Ивановна, подкладывая Марту в миску третий блин. – Какой Бас? – почти хором спросили мальчишки. – Был у нас с дедом Иваном пес. Еще до вашего рождения. Я в нем души не чаяла. Любила, словно дитя. – А я, как внучка! – поддакнул, скиснув, дед. – Он, Бас, был неуклюжий и смешной, – продолжала мать, – грубый и ласковый. Длинный-длинный на коротких и сильных, словно у крота, лапах. Черный, гладкий, лоснящийся… – А-а уши, Люб! Помнишь его уши? Не уши, а крылья! И ел Бас больше поросенка. Все подряд. – От любви, – продолжала мать, – Бас очумел, ополоумел. Видно увязался за собачьей свадьбой и сгинул. Искали его, спрашивали у знакомых и случайных прохожих. Исчез… Братья Ветровы умолкли, задумались. – Люб, ты просто запамятовала, – возбужденно затараторил, размахивая, жестикулируя руками, дед Иван. – Ты все напутала! Помнишь, как Бас гонял по нашей улице всех соседских кур, уток, гусей?! – Да, гонял, – подтвердила дочь. – Он же был инструктором по полетам, – весомо заметил отец. – Бас учил их летать. Сам он тоже мастерски летал. Разгонится-разгонится, ушами хлоп-хлоп-хлоп и летит. Поначалу недалеко летал, а потом асом стал. Он не исчез, не сгинул, – дед Иван улыбнулся внукам. – Он просто улетел в Африку! Мальчишки радостно засмеялись. – Да-да! – продолжал старик. – К нему присоединилось несколько соседских кур, гусь и индюк. Как они красиво поднялись в небо! Настоящим клином. А наш Бас впереди! Вожак!!! – Дед, ты настоящий сказочник! – выплеснул Понедельник. – Сказочник-расказочник, – притворно-обиженно передразнил Иван. – Жисть без сказки, что русская зима без снега… Зеленый конь (13) – Скоро ты потеряешь близкого человека… В полусне, в полузабытьи услышала Медведица. – Кто это? – спросила, с замирающим сердцем, женщина. – Твоя подружка! – Подружка? – Да! Твоя лучшая подружка подушка! Любовь Ивановна проснулась. Лежала в предрассветной темноте неподвижно. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, даже мизинцем. Не было сил открыть глаза. В этот миг ей почудилось словно Нечто темное, злое, похожее на тучу, придавило ее, расплющило, выпило все ее силы. Женщину охватил ужас. Нечеловеческим усилием воли она сжала пальцы в кулак. Жизнь стала к ней возвращаться. Наваждение прошло. Тело слушалось Ветрову. – Может, моя душа покидала меня? А потом вернулась. Никогда со мной такого не случалось. Господи, дай мне силы поднять своих детишек! Ивана Ветрова разбудил шум, треск – начался ледоход на реке Сугробке. Она текла в ста метрах от дома, недалеко от изгороди забора. Голова у Ивана раскалывалась. Вчера он перебрал с самоплясом. Пошатываясь, старик добрел до кухни и опрокинул в себя стакан ледяной воды, смочил ею лоб. Машинально сдвинул занавеску с окна в сторону и замер. В саду у старой, полу засохшей яблони гарцевал зеленый конь, виновато косил глазищами в сторону Ветрова. Но ни конь, ни цвет его, поразили старика, а глаза зеленогривого. Да, глаза, глазищи – большие, глубокие, с потаенной грустью и тихой лаской. Точно такие же были у покойной жены Ивана Насти. Рядом с облепленными снегом кустами малины село несколько крикливых, скандальных ворон. «Зеленый конь. Черные яблоки в белой траве…» – вспыхнули спичкой в темном чулане памяти старика слова головы-облака. – Я щас! Щас! Погодь малость! – испуганно запричитал Иван. Не одевшись, в одних трусах, он впрыгнул в валенки и выскочил в сад. Вороны, при его появлении, недовольно галдя, поднялись в сумрачное небо. – Я щас! Погодь! Щас! – извиняясь и кланяясь, обращался он к коню. – Горло смочу для смелости… Щас, Настя!.. В доме у Ветровых всегда был небольшой запас самопляса, но о нем старик в это утро напрочь забыл. Он спотыкаясь, падая в снег, дрожа всем своим хилым, изношенным годами тельцем, семенил к реке. Зимой ,бывало, Иван покупал спирт на другом берегу. По толстому льду узкой Сугробки весь народ с улицы Островной делал вылазку в «цивилизацию»: базар, магазины, работа… До большого каменного моста далековато, а тут вжик по льду и в центре города. Ветров доковылял до реки и не раздумывая, не пугаясь темных, ртутных проблесков обжигающе-холодной воды меж ползущим, гремящим льдом, стал неуклюже прыгать со льдины на льдину. В центре Сугробки он на мгновенье замешкался, засомневался, с тоскою и болью глянул на Плешивую гору. Она ему высокомерно-царственно улыбнулась, как некогда голова-облако и сказала: «Пора, Иван! Финита ля комедия!..» Плешивую гору закрыла собою, вставшая на дыбы, белая стена. Последнее что увидел Иван Ветров это восходящее бледное солнце, отраженное зеркалом падающей на него льдины… Пикник (14) У покойного деда Ивана одной из любимых книг – настольной, зачитанной с цветными картинками – был роман о Робинзоне Крузо. Старик время от времени брал его в руки, аккуратно, бережно, словно цветок, открывал на странице с картинкой и, попыхивая папироской, витал несколько минут где-то в облаках. Нет не в облаках! Скорее, находился на далеком, необитаемом острове. Там вместо холодного снега – нагретый солнцем бархатный песок, ни речка Сугробка, а бескрайний, словно небо, теплый, соленый океан, ни березы с дубами, а пальмы, лианы, ни вороны с соловьями, а попугаи и диковинные бабочки… Нет, он ни за какие блага не променял бы свой остров на остров Робинзона Крузо. Но все ж Ветрову импонировало, что Робинзон, например, назвал своего друга-попуаса Пятницей. Ни каким-нибудь Джоном или Джеком, а Пятницей. После 17-го года, во времена великих перемен и преобразований, грандиозных строек и небывалых подвигов, многим мальчишкам и девчонкам, при рождении, давали новые, яркие, звучные имена. Иван Ветров поддался моде и тоже хотел назвать свою дочь «Авророй», в честь легендарного крейсера, но жена Настя воспротивилась, настояла на Любочке. Обладатель гвоздя-антенны завидовал одному пареньку с многолошадным, железным именем Трактор. «Иван, Иванушка, Ивашка… Даже в сказках Иванушка-дурачок. Сколько Иванов было за сотни лет?! Больше чем китайцев в Китае. Что ни русский, то Иван. А-а, Трактор! Это уже другая материя. Это сила, напор, металл! Это будущее!» – приблизительно так рассуждал пастух Ветров. Он не раз просил дочь Любу назвать внуков в честь дней недели. Яйцеголового – Понедельником и так далее вплоть до Воскресенья. Медведица долго, болезненно сопротивлялась, но заметила, что ее сыновья уже давно друг друга окликают: «Эй, Среда!,,» «Слышь, Суббота!,,» В школе, на улице, да и соседи к ним обращались также. Семерым Ветровым исполнилось по шестнадцать лет. Получение паспортов решили отпраздновать на речке Сугробке.. Благо живописное, тихое место в ста метрах от дома. Пикник! Был закат дня и закат августа. Вода в Сугробке прозрачная, быстрая и уже прохладная. Дно песчаное, светлое и упругое. Ветровы развели огромный костер. Постелили на разнотравье, ставшее ветхим, лоскутное одеяло «солнышко». Медведица наготовила всяческих вкусностей, накупила сладостей. Поставила в центре «солнышка» пол-литровую бутылку с самоплясом. – Лучше при мне по три глотка выпьете, чем не известно с кем и где, – ответила она на вопросительные взгляды сыновей, их минутную растерянность. Посидев немного с детьми Любовь Ивановна, сославшись на «гору стирки», засобиралась домой. – Гуляйте, отдыхайте. Понедельник Иванович будете за старшего, уходя, обронила мать. Открывая дверь дома, Медведица услышала красивую, печальную музыку. Она лилась со стороны реки, где находились сыновья. Это Суббота на дедовой балалайке играл «Лунную сонату»… – Вторник Иванович, – повел речь на правах старшего Понедельник. – Всем нам, своим братьям, мыча теленком и играя в карманный бильярд, расскажите, пожалуйста, сказку о спящей красавице. Юноши заржали жеребцами. Они, разомлевшие от сытного и обильного праздничного ужина, малость захмелевшие от самопляса, вальяжно развалились на лоскутном одеяле. Казалось, покажи им язык или скоси глаза и они, совершенно искренне, будут гоготать до коликов в животе. – Вторник Пиписькин, не стесняйтесь, поведайте почетному собранию эту простую, поучительную житейскую историю, – иронизировал яйцеголовый. – М-м-м. Отстань, а-а-а. Увянь, – нехотя буркнул Ветров второй, пощипывая на подбородке несколько жестких, вьющихся волосков. – Это о Слонихе, что ль? – поинтересовался Среда, вертя в длинных, подвижных пальцах перочинный нож. – Нет, любезнейший, Среда Иванович. Не о Слонихе, а о спящей красавице. Ветровы снова загоготали. – Надо Вторнику отдать последних полтора глотка, что остались в бутылке. Может, смелее станет? – Пей, Пиписькин! – подбадривали братья. Вторник, не сопротивляясь, взял бутылку, приник к горлышку толстыми красными губами – три раза булькнуло, – кисло сморщившись, закусил снежком зефира. Пустую бутылку небрежно швырнул в траву. – Чо, м-м-м, рассказывать?! Пришел я к ней, м-м-м, к Слонихе. А она уже готовая. Говорит мне : «Ты есть кто?» Я отвечаю: «Вот!» и показываю бутылку водки… – Наш герой сэкономил на школьных пирожках и купил Слонихе подарок, – подсказал Ветров старший. – Будешь соваться, м-м-м, больше слова не скажу, – огрызнулся рассказчик. – Так вот. Как его, м-м-м. Она говорит: «Наливай»! Я открыл бутылку зубами. Она, м-м-м, протягивает мутный стакан с окурком на дне. Я хотел его вытащить, м-м-м, а она орет: «Наливай!» Я и налил полный. Она говорит: «Отойди!»- и хлобысть залпом в себя. Сморщилась, икнула, окурок пожевала и проглотила… – Это вместо огурчика, – подсказал Среда. – М-м-м, глаза у Слонихи стали мутные. Захрапела сидя на стуле. Как его, один глаз закрыт, а другой открыт. Стеклянный, словно мертвый, м-м-м, жуть! Рядом на полу лежит матрас полосатый, м-м-м, порванный. Я, м-м-м, хотел ее перенести на матрас. Попытался поднять Слониху со стула. М-м-м, не смог. Уронил. Она свалилась на пол. Тут, как ее, кукушка в часах с перепугу начала куковать не останавливаясь. А Слонихе хоть бы что, храпит раскатисто и громко, словно трактор. М-м-м, лежит на полу горой. Хоть бы что. Тут бах-тарарах, вваливаются три «синяка». Один косой, другой – хромой, а третий в мятой шляпе. Отобрали у меня бутылку с остатками водки. Говорят, м-м-м. Вали отсель! Она прошлой ночью на трех станках работала. Стахановка. Вали! Дай труженице отдохнуть, отоспаться, м-м-м… – Хорошо, что ты, братишка, цел остался. Морду не набили, лишь водка – потеря, – деланно серьезным тоном вставил Среда. – А зачем ты к Слонихе ходил, брат? – состроив глупую, непонимающую мину, спросил Пятница. – Он ходил просить ее руки и сердца, ей же хотел предложить свою пупушку! – подытожил яйцеголовый. – М-м-м, ну вас! Больше ничего не скажу, ни слова, – обиделся Вторник. Братья, слушая историю, с большим трудом себя сдерживали. Тут зыбкая плотина молчания рухнула под натиском волн безудержного смеха и они долго на разные голоса гоготали: Хи-хи-хи! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Хе-хе-хе!.. Особняком держался тихий, сдержанный в эмоциях Четверг. Он сидел у костра, время от времени подкидывал в него дрова, ворошил угли. Задумавшись, погрузившись в свой непростой мир, глядел на языки пламени. – А-а-а, небо-то какое звезда-атое!!! Братья стали раздеваться и голышом прыгать в речку. Крики, смех, ругань. – Меня кто-то за ногу схвати-и-ил! – перепугано воскликнул Суббота. – Русалке понравился, – ответил в темноте Среда. На другом – высоком и обрывистом берегу Сугробки зажглись в домах огни: десятки больших, средних и малых прямоугольных лун. … Да простит читатель автора за малые, вполне жизненные сальности, промелькнувшие в этой главе и ранее. Что поделаешь, братья Ветровы повзрослели. Кончилось чистое, белое и пушистое детство… Как говорил один мой знакомый сантехник, склонный к философствованию, после рюмки, другой: «Жил себе, жил, бед не знал. А как первый раз поцеловал девчонку – началась катавасия. Половой инстинкт – сумасшествие, проклятье, толкающее на глупости, пьянство, преступления…» Сознаюсь, в дальнейшем повествовании будет временами «свистопляска», но, уважаемый читатель, сделайте скидку на основной инстинкт, проснувшийся в братьях Ветровых… Да, вещи называть своими именами порой не всегда приятно, но зато честно… Семь бед (15) Пришла Осень – ветреная, капризная и плаксивая тетушка. В пышной, разноцветной ее шевелюре пестрели пряди от ярко-лимонового тона до густого и вязкого багрового. Она зябко куталась, нервно передергивая плечиками, в пышные, клубящиеся меха туманов… За нею следовал пажом Холод… Закружились в звонком, прохладном воздухе белые мотыльки – тяжелые, влажные хлопья первого снега. В одно утро в железные ворота Ветровых стал кто-то грубо и громко бить, словно в большой и тяжелый барабан, без коего не обходятся скорбные процессии. Любовь Ивановна вздрогнула и поторопилась на улицу. За воротами стояло семь маленьких скрюченных старушек в черном. Когтистыми куриными лапками-ручками они опирались на кривые, сучковатые палки-посохи. При виде Медведицы их большие лягушечьи рты-щели растянулись в некое подобие улыбок. Улыбки-гримассы. Все семь пар глаз старух застилали бельма. – Открывай ворота! – на удивление зычно и властно гаркнула одна из незваных гостей. Ее сильный голос никак не вязался с худосочным, малым тельцем. – Вы кто? – спросила Ветрова. – Шештры! – ответила другая. – Открывай ворота, беда пришла! – зло приказала первая, горластая. – Ни беда, а шемь бед, шемь шештер, – поправила тихая старушка. Остальные пять блаженно лыбились, пристально, с любопытством разглядывая Медведицу. Мать семерых детей все, что у нее было в холодильнике, в погребе и закромах выставила на стол. Угощала старушек-сестер, говорила ласковые слова, одаривала. – Не нужна мне твоя шаль! – скомкав дорогой, нарядный Любин платок, метнула его на пол старшая из сестер. Женщина всем старушкам хотела сделать по подарку, но они напрочь отказывались от них. От золотых сережек с рубинами, что остались Любе от матери Насти, от янтарных бус – подарка отца Ивана, от денег, скопленных для обновок детям, от вещей… – Это ты само собой когда-нибудь отдашь. Время придет и отдашь, – была непреклонна старшая. – Дай нам фотографии швоих шиновей, – прошамкала тихая Беда. – Посмотреть? – испуганно спросила мать. – Нет! На шовшем! Каждой иш наш по шнимку шына. Наш шемь и шыновей шемь, – потребовала старуха и залилась беззвучным смехом, зашипела змеей. – Они нам нра-а-авятся! – хором пропели остальные пять сестер и кокетливо прыснули в ручки-лапки квакающим смехом. – Вон отсюда, старые ведьмы! Все что угодно, только не дети! Вон! – Медведица вытолкнула черных старух из дома, прогнала со двора. – Наш ответ – семь тебе бед! – кричали они, довольно резво выскакивая за ворота. После этой встречи Любовь Ивановна стала жить тревожно, каждую минуту страшась за своих сыновей, за их жизнь 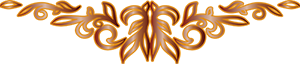 |
|
Категория: Проза › МВ | Просмотров: 893 | Дата: 20.12.2017 | |
| Всего комментариев: 0 | |

